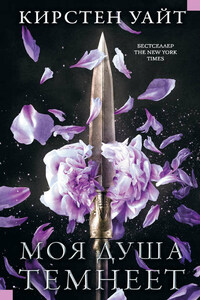Молния распорола небо, прочертив в облаках вены и отмечая сердцебиение самой Вселенной.
Я удовлетворенно вздохнула. Дождь хлестал по окнам дилижанса, а раскаты грома заглушали стук колес, так что мы не услышали, а только почувствовали, как грунтовая дорога сменилась брусчаткой на окраине Ингольштадта.
Жюстина, спрятав лицо у меня на плече, дрожала, словно новорожденный кролик. Очередная белая вспышка осветила дилижанс, и мы чуть не оглохли от грохота такой силы, что в окнах задребезжали стекла.
– Как вы можете смеяться? – спросила Жюстина. До этого момента я не замечала даже, что смеюсь. Я погладила ее темные локоны, выбившиеся из-под шляпки. Жюстина ненавидела громкие звуки: хлопанье дверей. Грозу. Крики. В особенности крики. Но моими стараниями в последние два года крики ее не беспокоили. Как странно, что наше с ней жестокое прошлое – хотя в моем детстве жестокость закончилась намного раньше, – привело нас к таким разным результатам. Жюстина была самым искренним, самым любящим и добрым человеком из всех, кого я знала.
А я…
А я нет.
– Я не рассказывала, что в детстве мы с Виктором забирались в грозу на крышу дома, чтобы посмотреть на молнии?
Она помотала головой, не отнимая лица от моего плеча.
– Свет преломлялся, отражаясь от гор, обрисовывал их контуры… мы словно наблюдали за сотворением мира. А когда молнии сверкали над озером, они как будто появлялись разом и на небе, и в воде. Мы возвращались домой мокрые до нитки; просто чудо, что никто из нас не умер от простуды.
Я снова засмеялась, вспоминая, как это было. На моей коже – светлой под стать волосам – от холода проступал ярко-малиновый румянец. Виктор с прилипшими к бледному лбу темными локонами и неизменными кругами под глазами выглядел как сама смерть. Ну и парочка мы были!
– Как-то ночью, – продолжила я, почувствовав, что Жюстина немного успокоилась, – молния ударила в дерево в каких-то шестидесяти футах от того места, где мы сидели.
– Какой ужас!
– Это было изумительно. – Я улыбнулась и прижала ладонь к стеклу, чувствуя его холод сквозь белую кружевную перчатку. – Для меня это было свидетельством великого и ужасного могущества природы. Я как будто видела самого Бога.
Жюстина неодобрительно зацокала и, оторвавшись от моего плеча, бросила на меня сердитый взгляд.
– Не кощунствуйте.
Я показала ей язык, и она невольно улыбнулась.
– А что Виктор?
– О, с той ночи он несколько месяцев ходил как в воду опущенный. Как же он выразился? «Изнемогая в юдоли невыразимого отчаяния…»
Улыбка Жюстины стала шире, хотя в ней проступило легкое недоумение. Прочесть ее было легче, чем любую из книг Виктора. Все они требовали глубоких знаний и пристального вчитывания, в то время как лицо Жюстины было иллюстрированным манускриптом – красивым, драгоценным и понятным с первого взгляда.
Я неохотно задернула шторку на окне, загораживаясь от грозы ради ее спокойствия. Она не покидала дом у озера со времени последней нашей злополучной поездки в Женеву, когда на нас набросилась ее безумная, опустошенная горем мать.
– Если я видела в разрушении дерева красоту природы, то Виктор видел силу – силу, которая освещает ночь и изгоняет тьму, силу, способную одним ударом положить конец долгим векам жизни, – силу, которой нельзя овладеть и которую невозможно контролировать. Ничто не раздражает Виктора больше, чем то, что он не может контролировать.
– Жаль, что я не узнала его поближе, прежде чем он уехал учиться.
Я похлопала ее по руке – на ней были перчатки из коричневой кожи, которые мне подарил Анри, – и сжала ее пальцы. Ее перчатки были куда мягче и теплее моих. Но Виктор предпочитал, чтобы я носила белое. А я любила дарить Жюстине подарки. Она поселилась у нас два года назад, когда ей было семнадцать, а мне – пятнадцать, а каких-то два месяца спустя Виктор нас покинул. Она его почти не знала.
Его не знал никто, кроме меня. Меня это устраивало, но мне хотелось, чтобы они полюбили друг друга так же, как я любила их обоих.
– Скоро ты с ним познакомишься. Мы все – ты, я, Виктор… – Я осеклась, чуть не добавив «и Анри». Ни за что. – Мы снова будем вместе, и моя душа наконец успокоится.
За жизнерадостным тоном я скрывала страх, который преследовал меня с начала этой авантюры.
Я не могла допустить, чтобы Жюстина тревожилась. Эта поездка состоялась исключительно благодаря ее желанию сопровождать меня в качестве компаньонки. Судья Франкенштейн сразу же отклонил мою просьбу разузнать что-нибудь о Викторе. Думаю, он испытал облегчение, когда Виктор уехал, и отсутствие новостей его не пугало. Судья Франкенштейн всегда говорил, что Виктор вернется, когда будет готов, и мне не стоит об этом беспокоиться.
Но я беспокоилась. И еще как. В особенности после того, как обнаружила список расходов, первым пунктом которого значилась я. Он проверял траты на меня – несомненно, скоро он решит, что держать меня в доме больше не выгодно. Я слишком хорошо потрудилась над Виктором. Я выпустила его в мир, и мои услуги были его отцу больше не нужны.
Я не позволю себя выбросить. После стольких лет усердной работы. После всего, что я сделала.
К счастью, судью Франкенштейна призвали какие-то таинственные дела. Я не стала спрашивать разрешения снова… и просто уехала. Жюстина этого не знала. Ее присутствие позволяло мне свободно перемещаться, не вызывая подозрений и осуждения. За Уильямом и Эрнестом, младшими братьями Виктора и ее подопечными, до нашего возвращения обещала присмотреть горничная.
Очередной раскат грома прогрохотал с такой силой, что отозвался у нас в груди.
– Расскажите мне, как вы познакомились с Виктором, – пискнула Жюстина, вцепившись в мою руку до боли в костях.
Женщина – не моя мать, а та, другая, – ущипнула меня и грубо, но умело прошлась гребнем по волосам.
Платье было мне велико. Рукава прикрывали запястья, как у взрослых, хотя мне пока еще полагалось носить детскую одежду. Зато платье прятало синяки на моей коже. Неделю назад меня поймали, когда я пыталась стащить с кухни немного еды. Опекунша и раньше меня поколачивала, но на этот раз она избила меня до темноты в глазах. Следующие три ночи я пряталась в лесу, у озера, и питалась ягодами. Я думала, что она убьет меня, если найдет; она часто грозилась это сделать. Но она придумала для меня другое применение.
– Только попробуй все испортить, – прошипела она. – Останешься со мной – пожалеешь, что не умерла при рождении вместе со своей мамашей. Эгоистка при жизни, эгоистка после смерти. Вот кто тебя породил.