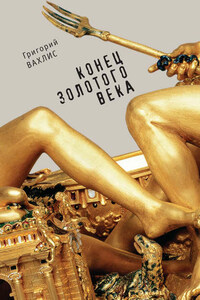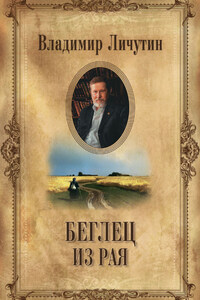Лучшее время – раннее утро. Насчет радиации и тому подобное. Но, главное, на пляже никого. Пробежит одинокий атлет или атлетка. Еще не потная, в бирюзовом бикини. Вылазят на поверхность крабы, да и сам песок, реанимированный ветром и ночным прибоем, еще дышит. Я лежу рядом со своими брюками, явился на рабочее место на полчаса раньше – специально для этой вот бессолнечной ванны. Светило ненавижу. Будет давить весь день. Прохлада лишь в туалете. Обдашь его мощной струей из шланга, посидишь пяток минут на лавочке – метла, совок с длинной ручкой, гарпун для изымания из песка бумаги и пластика, а также экологического цвета форменная майка – ждут не дождутся меня за зеленой, исписанной похабщиной дверью.
На пирсе уже маячит этот тип. Отсюда трудно разглядеть, но я знаю, у него худые ноги, сутулая спина и тугое маленькое брюшко, похожее на резиновый мяч. Лысина, хотя, если смотреть спереди, скорее плешь. Удивительные леопардовые плавки, в начале лета их давали в киоске. Вечером он ходит «в город». Я всегда встречаю его на площади, тут она одна. И почему-то всегда около телефонной будки. Вроде бы собрался кому-то звонить. Но в будке я его ни разу не заметил. Он – бывший «совок». Под сандалиями у него носки. Весь его «призыв» давно уже адаптировался и носит вьетнамки или «на босу ногу». Он пытается пользоваться костюмом – видно, так ему привычней, но жара берет свое и пиджак, серый в клетку, повисает на согнутой клюшкой руке. Я знаю, где он живет: все они живут в «отеле», не таком уж, впрочем, дешевом. Платит Сохнут. У себя в «номере» он готовит на плитке и пьет воду из крана.
По утрам он на пирсе. Смотрит в даль. Даль – единственное, что здесь есть. За исключением блядей: шикарных, ухоженных, сладко воняющих на всю улицу духами «Ланком» и «Шанель», и подешевле, в жидких кустах за диким пляжем, рядом с раздолбанной «Субару». Тяжкие черные патлы свисают на широко расставленные колени, а на коленях лежат усталые руки, в тачке курит «прораб». Утром они спят.
Люди смотрят на море. На теплоход. На телок. Смотрят вообще – как оно тут все… в общем – недорого, по карману. Шашлычки-фалафели, пепси и кока-колы… Виски «Би-джи 40». Ликеры «Драмбуй» и «Пина-колада».
А он смотрит в одну точку. А, может, и не в точку… Ветер приподымает черненькое колечко, жиденькую кудряшку, шевелит ее, и это единственное, что живо в нем…
Провинциальный бухгалтер-снабженец-товаровед? Золотой перстень с крошечным бриллиантиком в углу, нажитой полуправедными трудами, гастритом и бессонными ночами. Примерный семьянин с внезапными скачками «налево»…
Где же его шумливый выводок? Где жена в голубой соломенной шляпке, где дочери-зятья, внуки-внучки? Кофеварки-микровели, вывезенные из Фастова ковры? Где Эренбург-Фейхтвангер и Графиня де Монсоро в синем с золотом переплете?
Из-за горизонта уже полыхнуло белым электросварочным светом: пухленькие, измазанные арахисовым маслом щечки, наманикюренные пальчики, мускулисто-волосатые зятьевы ноги, шумливые ссоры и застольные примирения, походы «в город», да и сами леопардовые плавки начинают расплываться, опадать и уходят в песок. Железной необходимостью дышат уже накаленные солнцем совок и гарпун.
Толпы бредут вдоль набережной. Вечер. Тепленькая прохлада. Пахнет жратвой, чавкает музыка. Туго набитые витрины, безмолвная борьба вывесок, маргариновый дымок грилей, запах духов, лосьонов и пота. Фонари с натугой отодвигают темноту к морю. Оттуда доносится сдержанное повизгивание и кашель. И вдруг – огромные, с кулак, золотые звезды в просвете полосатых тентов. Набережная кончается. Я машинально бреду дальше, шарканье, бормотанье и визг стихают, доносятся лишь низкие частоты и рев автомобилей. И тут ослабевшие глаза различают столик и две скамеечки, вросшие в песок. Вокруг шевелятся пластиковые упаковки из-под «Кгс&Ко», которые я подберу завтра утром, да блестит под звездами жестянка из-под «Red bull».
За столиком кто-то сидит, на столик не опираясь. Руки на коленях, знакомая плешь тускло отсвечивает под луной. «Накушался», – думаю я. Когда возвращаюсь назад, за столиком никого.
Он снова стоит на «пирсе». Сегодня я узнал его историю! Он – учитель истории! Но вчера случилось еще кое-что: в самый полдень, когда я шел «на обед», увидал его в кафе. Мимо неспешно прошуршали шины, и он тут же вскочил и, выбежав ну улицу, стал смотреть вслед – вероятно, услыхал знакомый звук мотора.
Я взял себе сандвич с туной, майонезом и солеными огурцами, а к нему – бутылку «Маккаби» и, выйдя наружу, устроился на парапете, в узенькой полоске тени. Жара достигла своего дневного пика, но здесь, на ветерке, все равно было лучше, чем там, где под грязно-желтым потолком вяло помахивал вертолетными лопастями вентилятор. Ледяное пиво сконцентрировало на миг растекающиеся мысли, и вдруг вспомнилось – старое желтое «Вольво» принадлежало хозяину «отеля».
Ителла мне все рассказала: никакой не бухгалтер, а приехал с женой. У нее была депрессия и почки, а он за ней очень красиво ухаживал, цветы и все такое… А две дочери живут в Ашдоде. Очень хорошо устроились, приезжали раз или два. А она жила с ним в Хайфе, а потом тут, в «отеле», и устроилась тоже сперва уборщицей, а потом стала кастеляншей, и хозяин… Ах черт, точно! Я тут же вспомнил, как однажды это самое «Вольво» остановилось вдруг на набережной, в нем сидел приятного вида седой пухлый человек и курил сигару. Из-за сигары я его и запомнил, но потом забыл. И к нему в машину села пожилая, пухлая блондинка, я еще подумал – русская. Она закурила сигарету. Я сидел на складном стуле и все видел, как они молча курили. У нее было очень белое лицо с мелкими чертами, и она вся подрагивала, когда, спотыкаясь на своих каблуках, торопливо шла через пляж от машины к пирсу с бутылкой «колы» и длинным сандвичем в бумажном пакете.
Скоро придет зима, народу поубавится. Ителла закончит свои курсы и, сугубо по-деловому распрощавшись со мною, уедет в Тель-Авив, бляди прекратят работу «на пленэре», да и мне пора подумать о себе. Последним, что я увижу тут, будут полосы мусора на песке, сложенные в штабеля пластмассовые стулья и забитая досками дверь.