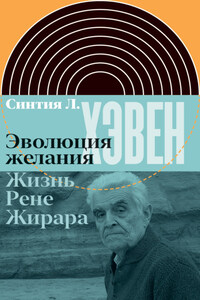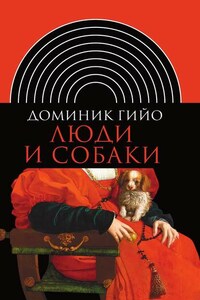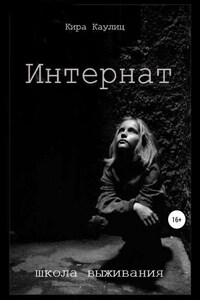Между Фреге и Фуко: методологические ориентиры исторической семантики
Юрий Кагарлицкий, Борис Маслов
От Гумбольдта к Виноградову: лингвистический аспект
Место исторической семантики в кругу историко-филологических дисциплин, в которых изучение истории неразрывно связано с реконструкцией идейного содержания слов, текстов, дискурсов и интеллектуальных построений, остается непроясненным как с теоретической точки зрения, так и на практике. Как наука, изучающая бытование смыслов в истории, она лишена четкого дисциплинарного и институционального самоопределения, и в разных исследовательских традициях к ней примыкают (либо ее замещают) такие области знания, как интеллектуальная история, история идей, история понятий, история слов, история эмоций, диахроническая семантика, история науки и история литературы. Многообразные интеллектуальные ориентиры исторической семантики заставляют исследователя непрестанно пересекать границу между гуманитарными и социальными науками, обращаясь то к лингвистике, истории культуры и философской герменевтике, то к политической теории, социологии и социальной истории.
Гетерогенны и предмет, и методы исторической семантики, гетерогенны и мотивы обращения к ней исследователя. Для лингвиста, изучающего язык как материю со своими законами, историческая семантика, в соответствии со значением слов, составляющих ее название, изучает закономерности в историческом изменении значений слов или тех или иных лексических классов; новейшие исследования по диахронической семантике выдвигают на первый план эволюцию значений грамматических показателей[1], в целом оставляя в стороне такие проблемы, как появление новых слов для обозначения новых представлений и выход из обращения тех слов, которые соответствуют отжившим представлениям. Тем не менее, даже если определить историческую семантику как раздел науки о языке, она практически сразу сталкивается с важной и в какой-то мере ключевой проблемой: как соотносятся язык и реальность? На заре языкознания В. фон Гумбольдт, как известно, утверждал, что язык и есть мышление, творчество:
Язык следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидающий процесс (Erzeugung). При этом надо абстрагироваться от того, что он функционирует для обозначения предметов и как средство общения, и вместе с тем с большим вниманием отнестись к его тесной связи с внутренней духовной деятельностью и к факту взаимовлияния этих двух явлений… Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia). Его истинное определение может быть поэтому только генетическим. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли [Гумбольдт 1984: 69–70][2].
Эти широко известные декларации едва ли определили магистральное направление развития науки, тем более что философские построения Гумбольдта сегодня нас устроить никак не могут. Тем не менее, когда речь идет об исторической семантике, приходится снова возвращаться к вопросу – в какой мере язык лишь отражает реальность, а в какой он ее формирует и создает? В 1945 году В. В. Виноградов, намечая пути историко-лексикологических исследований, ссылался на Гумбольдта и говорил:
Слова, идеи и вещи должны изучаться как аналогические и взаимодействующие ряды явлений. Но соотношение между ними – сложное. В истории материальной культуры функции и связи вещей меняются в зависимости от контекста культуры, от ее стиля. Формы мировоззрений также эволюционируют, и едва ли воспроизведение идеологических систем прошлого возможно без помощи лингвистического анализа… Но тут получается своеобразный заколдованный круг. Открытие закономерностей в исторических изменениях форм и типов мышления невозможно без изучения истории языка, и между прочим, истории слов и их значений. История же языка, в свою очередь, как научная дисциплина немыслима без общей базы истории материальной и духовной культуры и прежде всего без знания истории общественной мысли. В настоящее время частые провалы и блуждания на этом пути неизбежны. Достаточно сослаться на отсутствие разработанной семантической истории таких слов, как личность, действительность, правда, право, человек, душа, общество, значение, смысл, жизнь, чувство, мысль, причина [Виноградов 1995: 6–7].
Мы позволили себе такую пространную цитату, потому что в ней нашло отражение понимание Виноградовым, тонким лингвистом, сложного, обоюдостороннего взаимодействия между языком и внеязыковой реальностью.
Едва ли можно сказать, что виноградовская программа исторической лексикологии стала руководством к действию для российских лингвистов последующих поколений[3]. Отчасти близкий Гумбольдту взгляд на соотношение языка и мысли, языка и культуры реализовался скорее в многочисленных исследованиях концептов, концептосферы, языковой картины мира и когнитивных констант, приписываемых к той или иной культуре и, как утверждается с большей или меньшей категоричностью, ее определяющих[4]. К общей оценке этого направления как своего рода симптома определенного типа исторического воображения мы вернемся ниже; в целом же надо заметить, что некритическое принятие мысли о языковой детерминированности культуры в сочетании с произвольным подбором материала создает предпосылки для появления легковесных и не слишком содержательных работ. Причину этого можно усмотреть в непродуманности философских оснований этого подхода: если культура определяется языком, чем же тогда определяется различие между языковыми картинами мира? Гумбольдт полагал, что в основе лежит «дух народа», но сегодня нас подобный романтический идеализм устроить, конечно, не может. Да и вообще трудно поверить в самодовлеющую силу языка; речь скорее следует вести о двунаправленном взаимодействии: язык несомненно играет роль в структурировании мышления и восприятия, но и мышление и восприятие явно воздействуют на язык, заставляя его приспосабливаться к своим нуждам и запросам[5].
Например, в основных европейских языках слово, обозначающее аппарат политически организованной публичной власти в стране, а также страну в целом с подобным аппаратом, восходит к лат. status ‘состояние, положение’ (state, état, Staat, stato, estado), а в русском языке общепринятый коррелят образован первоначально от наименования носителя власти: государство < государь. Означает ли это, что склонность носителей русского языка к авторитарным и централизованным формам власти запрограммирована многовековым развитием языка? К такой логике иной раз склоняются исследователи, между тем, как мы увидим в следующем разделе, внимательный анализ, предпринятый историками понятий, подводит к совсем другим заключениям. Наивный этимологизм оказывается несостоятельным и по причинам более общего порядка. Во-первых, неясно, как понимать такого рода суждение о власти языка над сознанием – как утверждение, что политическая судьба страны определяется случайностями языковой мотивации или что, напротив, за этими случайностями стоит некая провиденциальная сила, наподобие «духа языка» или «духа народа»? В любом случае вывод не будет слишком содержательным. Во-вторых, язык, как мы знаем, располагает не только наличным словарем, но и возможностями выработки новых терминов. Отсутствие политической философии, связанных с ней аффективных и поведенческих установок, относительно более позднее появление определенных публицистических жанров и культурных институтов сыграли, очевидно, гораздо более серьезную роль в истории российской государственности, чем никем не доказанное воздействие внутренней формы одного из терминов.