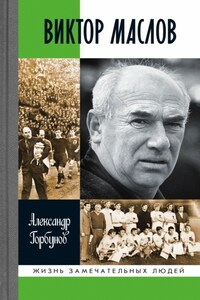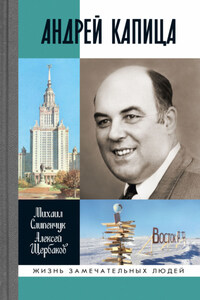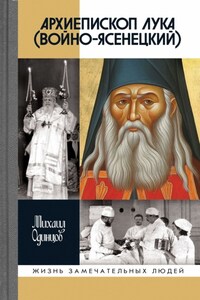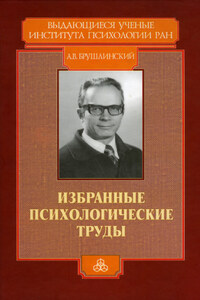Еду по родным местам. За окнами вагона плывут ровные, бескрайние степи, с бесконечно далеким горизонтом, подчеркнутым тонкой лиловой полоской лесов. На степях, как большие синие стекла, мерцают серебряной рябью бесчисленные озера, а их в Курганской области более 2 тысяч, окаймленные по берегам темно-зеленой оторочкой камышей. Нет, нет, да и набежит вплотную к окнам вагона березовый колок, еще зеленый, но уже тронутый золотистым налетом осени.
Вглядываюсь в зеленую глубину леса и вспоминаю, как бывало в детстве едешь на телеге по лесной дороге, где-нибудь по Развилкам, или по за Ремочком, и как-то хорошо и радостно тебе от прохлады, от запаха трав, березового листа, вишенника и от алых цветков шиповника, от птичьего звонкого многоголосья, от громкого, на весь лес веселого гортанного крика иволги и от далекого кукушкиного ку-ку, задумчиво, не торопясь отсчитывающей многие годы жизни всему живущему на Земле.
Я спешу, прервав лечение в санатории, к умирающему отцу. Застану ли его в живых, не знаю. Судя по телеграмме сестры Анны, отец очень плохо почувствовал себя в последние несколько дней.
–«–
Два часа ночи. Горница в доме отца. Горит подвешенная к потолку, увернутая керосиновая лампа с жестяным круглым, плоским, покрытым белой потрескавшейся эмалью абажуром. Тихо, только жужжат мухи, да на улице спросонья взлает собака и прогогочут, и вновь затихнут гуси.
Передо мной, на столе, покрытым чем-то белым, в некрашеном сосновом гробу, лежит умерший мой отец. Я не застал его в живых. Он умер 9 –го сентября 1961 года в 9 часов утра. В это время я ехал к нему в поезде и вот опоздал на целые сутки. Он лежит, и, кажется, что спит, а не умер; что вот проснется и заговорит таким знакомым, неповторимо родным и милым голосом, улыбнется так хорошо, ласково, как он улыбался всю жизнь.
Но нет, этого не будет больше никогда! Завтра мы зароем Батю в землю на берегу Большого Обуточка, на веселом солнечном пригорке. Похороним его рядом с любимой внучкой Римой, умершей в трехлетнем возрасте год тому назад. На том берегу, по которому так много ходил он в течение своей долгой жизни. Здесь, у Обуточка была наша пашня, на которой начинал робить ещё дедушка Иён, распахав лет 70 тому назад десятин восемь ковыльной степочки, что испокон веков лежала непаханой, нетоптаной между озером и кочковатым болотом, заросшим березовым лесом и непролазным тальником. На этой пашне у Обуточка, с малых лет робил и отец. Здесь он приучал к тяжелому крестьянскому труду и нас, своих ребятишек. Здесь он частенько хаживал с ружьишком, когда эти места были далекой и тихой «пашней», глухоманью в пяти-шести верстах от села Обутки.
А недалеко от озер Большого Обуточка и Коломина раскинулось в котловине озеро Корчажка, на котором было обилие уток и нередко садились и табуны гусей. На этих озерах он рыбачил до последних дней своей жизни. Здесь, на противоположном берегу озера Большой Обуточек, в ляге, отец в рассвете сил и здоровья, ещё молодой, вместе со своей большой семьей весело и удало косил и метал сено. Здесь прошла большая часть его жизни, здесь его завтра и похороним.
И уж никогда больше не услышим его ласкового, умного разговора, не увидим его голубых глаз в ласковом прищуре, не прижмемся щекой к его щетинистой щеке. Вот так, один за одним уходят из жизни близкие, дорогие люди, и все более одиноко и тоскливо становится в жизни. Новые привязанности, дети, семья, друзья, работа дают многое, но они не заменяют ушедших из жизни. Ямы в душе, образующиеся от потери близких, дорогих людей, не затягиваются, не заравниваются. Они остаются ноющими ранами на всю жизнь… Вновь наплывают воспоминания. Уехал я от отца из деревни Обутки в Москву парнишкой на 17 году от роду, и в памяти сохранились больше детские годы. С отъездом из деревни жизнь заполнилась многим и важным, но уже не связанным с отцом. Отец заполняет мое детство, и оно встает в памяти в эти часы последнего прощания…
–«–
Совсем еще маленьким я сижу верхом на ноге отца. А он, зажав в зубах концы нескольких черных лощеных, блестящих ниток, а вторые их концы, намотав на пальцы левой руки и сильно натянув нитки, тренькает на них правой рукой, как на струнах, одновременно высоко подбрасывает меня на ноге. Я изо всей силы уцепился ручонками за голенище сапога, чтобы не свалиться, и мне весело качаться и слушать, как звенят нитки. У отца зубы белые, белые. Усы над зубами золотистые, густые, немного загнутые концами вверх. Глаза у тяти светло-голубые, прищуренные, улыбаются мне, и нам обоим очень весело и очень хорошо. Руки, плечи, голова отца и весь он кажутся мне огромными, а нога, на которой я сижу, такая толстая и большая, что мои босые ножонки торчат над ней в разные стороны и на них, вперед-назад, вперед-назад болтаются, развеваясь, широкие ситцевые штанишки, то взлетая вверх, то почти касаясь черного половика с яркими, цветным гарусом вытканными, прямоугольными узорами…
–«–
Мы у старой бревенчатой пашенной избушки у озера Черепени. Весна. Ярко светит полуденное апрельское солнце. По голубому чистому небу тихо плывут редкие белые облака, и в мире, наполненном светом, теплом и тишиной, так хорошо, покойно и радостно! На сухой палевой прошлогодней, редкой, шуршащей траве, качающей под легким ветерком своими пустыми, без семян метелками, пасутся спутанные лошади, фыркающие от не смытой еще весенним дождем пыли, облетающей с травы. С телеги сняты и оттащены на межу паров бороны, хомуты и старенькое киргизское седло с вырезанной из березы на передней луке большой бабкой. Тятя достал из мешанинника лубяное, смоленое когда-то, но теперь обтертое, чистое лукошко, с широкой портяной лямкой. Насыпал в него из снятого с телеги мешка с пуд красноватой пшеницы и, нагнувшись, просунул голову в стареньком солдатском картузе под лямку лукошка. Поправил лямку на плече и с усилием распрямился, поддерживая лукошко обеими руками под донышко. Еще раз поправил лямку, которая глубоко врезалась в левое плечо, вдавив в него белесую выцветшую гимнастерку. Войдя на подсохшие пары, отец пошел вдоль межи от пашенной избушки к лесу и, плавно поворачиваясь, – левая нога вперед, полуповорот вправо, затем два шага вперед без поворота, потом правая нога вперед, полуповорот влево, – начал сеять.
Придерживая левой рукой лукошко за верхний его край, он брал правой рукой полную горсть семян и резким движением руки, козонками, тыльной ее стороной вперед и верх, немного наклоняя тыльную сторону кисти к лукошку, пропускал зерно между растопыренными пальцами, слегка ширкая зерном о лукошко, выбрасывая перед собой, направляя чуть вверх широкую, тонкую, на мгновение прозрачно вспыхивающую на солнце золотистым полукругом м тут же исчезающую из глаз, пелену семян. На сероватой от вешней воды корке подсохшего чернозема закраснела ровная рябь пшеничных зерен, как по мерке разложенных на одинаковых расстояниях одно от другого. Дойдя до лесной межи у заброшенного колодца и засеяв полосу шириной сажени в две с половиной, отец перешел левее, повернулся спиной к лесу и не спеша пошел обратно, поворачиваясь также плавно и ритмично, то вправо, то влево, взмахивая правой рукой при каждом полуповороте. И перед ним опять стал вспыхивать и исчезать розоватый пшеничный туман.