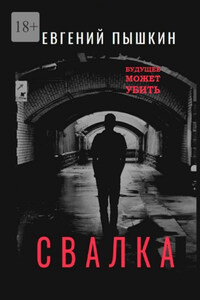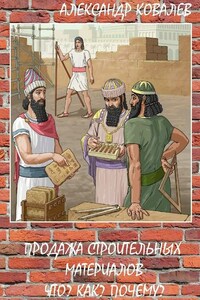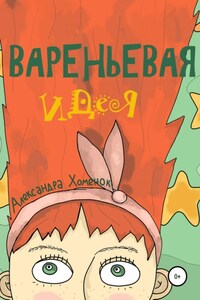Сквозь туман неопределенности двигались люди. Время и пространство породило их, и вот: несмелые разговоры и тихие смешки, скрип телег, топот копыт, фырканье лошадей и лязг оружия.
– Ну, что, святой отец, двигаемся потихоньку? – спросил солдат, ухмыльнувшись.
– Я не воин, чтобы двигаться, – съязвил отец Эприн.
– Возьмите, святой отец.
– Что это? И к чему?
– Клинок, как видите. Командир разрешил.
– Мое оружие – слово.
– Да, но в мирное время. Сейчас война, на дорогах опасно.
– Меня до этого назначали и в другие отряды, но я никогда не пользовался оружием.
– Молите Двуликого, что и в этот раз оно не пригодиться.
Можно подумать этот случайный солдат, пытающийся вручить клинок, к чему-то готовил его, или намекал на грядущее событие, или интуиция вдруг подсказала воину обезопасить Эприна. Но какое событие? Дело не в событиях, а простое понимание собственного положения – мы все на войне – говорило в пользу холодного оружия. Все это родилось в уме святого отца. И в мгновение мысли, как вихрь, пронеслись, не оставив следа. Солдат выжидающе посмотрел на него, и в глазах – пристальных и в тоже время уставших от долгих военных походов, – ничего не отразилось. Не смог Эприн ничего прочесть. Он, казалось, машинально протянул руку, взял клинок и, недолго думая, заткнул его за голенище.
Святой отец был одет по-военному и ничем не отличался от рядового. Его принадлежность к кругу Двуликого выдавали только длинные волосы, собранные в две толстых пряди, тронутых сединой. Две пряди символизировали частичную отрешенность от мира. Он был человеком и по закону принадлежал роду людей, как стайное животное принадлежит стае, но душа и помыслы обращались к Двуликому.
Эприн, невольно блуждая взглядом по солдатам, что шагали впереди, меланхолично заметил: «Интересно, когда это закончится? Сколько можно? Сколько идет война? Двадцать восемь лет. Целая жизнь». Он попытался вспомнить имена погибших солдат, хоть несколько имен, но не смог. Ни одного. Будто Двуликий нарочно стер из памяти всех, говоря: не трудись, вот призову тебя, тогда и ответишь.
– Не грустите, святой отец, осталась одна ночевка, и мы соединимся с королевским войском, скоро вы будете свободны от нас, – сказал командир отряда Глоз, поравнявшись с лошадью Эприна.
– Я просто стар.
– Устали? Тут все устали.
«И точно, – удивился Эприн про себя, – что я ворчу на судьбу? Я не солдат, меня не пошлют умирать».
Глоз, натянув поводья, отвел лошадь в сторону и развернул ее в конец каравана.
– А ну, не растягиваться! Бодрее шаг! – послышался голос командующего.
Но мысль, что Эприна не пошлют умирать, не особо порадовала его, ибо родилась она от безразличия, тихого и вязкого словно трясина. Она затягивала. Но это не пугало. Пугало само безразличие. Будто и не с тобой происходит ужас равнодушия, а с твоим врагом, и ты безучастно смотришь на гибель, возможно, тайно радуешься закату жизни, и только на краю сознания мерцает мысль: это ты, это тебя, это ты сам с собой сделал. И что привело к этому? Какое хитросплетение жизненных путей вывело к топи, и он не испугался, а сделал шаг в сторону погибели? И чего ждать? Смерти? Но умирать не хотелось? «Если бы появилась цель…», – вяло всплыла мысль.
Впереди показалась опушка леса.
Командир повел отряд к ней.
– Костры разведете, пищу сготовите и с наступлением сумерек погасить огонь. Огонь только для дозора, – буднично распорядился Глоз.
Святого отца немного развлекла двойственность собственных мыслей. Вроде, безразличие к жизни и усталость, и в тоже время не хочется умирать. Хочется еще пожить. Эту двойственность он не посчитал малодушием. Просто он человек, как и все остальные, а человек слаб, в его душе многое намешено.
И кроме, он, Эприн, является проводником душ в мир Двуликого. И все обращаются к Эприну не иначе как «святой отец» оттого, что перед святым отцом открыт прямой путь к богу. Это неоспоримый догмат. Когда Двуликий призовет его, он очень скоро предстанет перед властью иного, чтобы держать ответ за умерших. Эприн был готов поручиться за души умерших солдат. Они все же, считал он, были чистыми.
Спустя несколько минут, солдаты разбили лагерь.
Отец Эприн спешился. Его лошадь отвели.
Ночами было прохладно, днем – теплее. Солнце, чуть отогревая воздух, превращало землю под ногами в холодную склиз.
У опушки, где они остановились, деревья, чуть одетые в жухлую листву, походили на несчастных созданий, которых забыла судьба. Лес убого стоял у края, словно попрошайка в нищенском рубище, вызывая одновременно и жалость и брезгливость. И в противовес этому, будто насмехаясь над деревьями, чистый небосклон висел над миром в молчаливом и ледяном величии.
Эприн сел у костра и задумчиво посмотрел на танец огня. Рядовой деревянной ложкой помешал похлебку. Варево бурлило, клубился аппетитный пар, со дна котелка поднималась мутная вода, смешанная с кусочками мяса, овощей и хлеба. Эприн перевел взгляд на кипящий суп, и ему почему-то почудилась беспокойная река, несущая свои воды за горизонт.
– Святой отец?
– Да, солдат?
– Как думаете, скоро ли закончится война?
– Вопрос не ко мне, а к его величеству.
– Не понимаю, честно, за что мы воюем? Ну, поссорились, ну, и решите миром. С глазу на глаз. Мы-то здесь причем?
– Тебя как звать?
– Барр.
– Не боишься, Барр, что твои речи дойдут до ушей короля?
– Я? – Солдат перестал мешать и облизнул ложку. – Я не боюсь, святой отец. Может, меня убьют в следующем бою? Чего бояться-то?
– Верно, все под Двуликим ходим.
– Или вы, отец Эприн, доложите обо мне?
– Мне прибыли с этого никакой.
– И то верно. – И Барр продолжил сосредоточенно мешать похлебку.
Эприн машинально поправил ветки в костре и произнес:
– Семья-то есть?
– Не без этого. Жена. Дети.
– Как они без тебя?
– Нечего. Родня помогает. – Эприн кивнул. – Давайте, святой отец, ужинать.
Солдат достал из походного мешка миски и разлил похлебку.
Они сели напротив друг друга.
Барр медленно и сосредоточенно жевал. Взгляд его был отсутствующим. Святой отец спросил солдата, откуда тот родом, где живет, когда забрали на войну. Солдат отвечал скупо, не особо желая разговаривать. Беседы не получилось.
С закатом они легли спать под открытым небом, ежась от холода. Эприн думал, что не уснет, но в очередной раз, видно сказалась походная закалка, не заметил, как провалился в глухой сон, а очнулся от резкого вскрика. Он увидел Барра стоящего в неестественной позе на полусогнутых ногах и пытающегося скинуть кого-то с плеч, а вот кого, в утреннем сумраке святой отец не различил. Разбойник хотел задушить солдата. У нападавшего были едва различимые контуры неестественно длинного и худого тела, в очертаниях которого клубилось серое месиво.