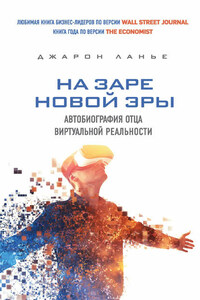Глава 1. В окрестностях Воронежа
1942. Ленинград
Огонь в печи постепенно затухает, лица старшего уже почти не видно. Сашка молча глядит на краснеющие за неплотно прикрытой дверцей печки угли, словно видит там атаку красной конницы Буденного на отступающих в панике белых. И в шуме ветра ему слышится многоголосое «Даешь…». Потом он спохватывается, оглядывается на старшего. Кружка в его руке опустела, и он снова начинает погружаться в забытье, а кожа на лице его снова сереет, как будто зола покрывает постепенно остывающий огарок.
Сашка встает, идет куда-то в темноту, потом возвращается с парой деревяшек в руках. Осторожно, чтобы не обжечься, открывает дверцу стальной печки, подбрасывает дрова и коленом прикрывает дверцу. Печь, словно обрадовавшись, отвечает веселой пляской язычков пламени, и лицо старшего вновь появляется из полутьмы. Он не отрываясь смотрит на огонь, который оттеняет глубокие складки морщин, прорезавших лицо от носа к уголкам губ. О чем он думает? Вероятно, и сам не смог сказать бы, но жадный до новых знаний Сашка прерывает и этот несвязный поток грез:
– А ты, значит, и в Гражданскую воевал, Рудольф Михалыч? За власть Советов?..
Старший, чуть усмехнувшись, поворачивается к Сашке и молчит. Потом хмурится, словно не находит правильного ответа, и вдруг улыбается, так что глаза его загораются двумя светлыми звездочками.
– Воевал. Сначала в партизанах, под Псковом. Потом опять в авиации.
– И Крым брал? Врангеля бил? – Глаза у Сашки горят восхищением.
– Крым не брал. – Старший качает головой. – Там другая армия была. А мы с поляками воевали, освобождали Киев.
– А правду говорят, что у тебя и орден есть за ту войну?
– Есть, орден Красного Знамени. – Старший привычно приосанивается, но потом глаза его словно пустеют. Он долго молчит и продолжает затем нехотя: – За ценные данные, по разведке.
– Ты, значит, снова летчиком там был? – Сашка смотрит на старшего восхищенно.
Тот вздыхает, потом говорит медленно, вероятно, взвешивая каждое слово:
– Сначала механиком в отряде. Потом наблюдателем летал. Потом командиром отряда был. Но летать мне все равно надо было… – Он опять надолго замолкает, а потом снова слегка усмехается: – Две аварии имел. И оба раза с летчиком Ефимовым. В первый раз с Иваном, второй раз с Леонидом…
– Они что, братьями были? – Сашка смотрит изумленно. Старший качает головой:
– Нет, просто однофамильцы. И в разное время в отряде служили.
– А что за аварии? Сильно побился?
– В первый раз повезло. Иван почти неуправляемую машину хорошо посадил, ушибами отделались. А вот с Леней крепко приложились. Там, понимаешь, пашня была… Наш Сопвич скапотировал, через нос перевернулся. Меня из кабины выбросило, ногу поранил сильно. Хромаю до сих пор. – Старший кивает на левую ногу. – А Леня руку тогда поранил.
– А чего упали?
– Да горючее у нас тогда было хуже некуда. Мотор в любой момент мог встать. Ну вот и встал.
– Бензин плохой был?
– Не было у нас тогда, Сашка, никакого бензина. Ни плохого, ни хорошего. Тогда в стране разруха была. Тиф. Голод. И нормального бензина почти не было. Заправляли самолеты чем придется.
– А чем? – Сашка смотрит на старшего с интересом. Потом улыбается: – Мазутом, что ли?
– Бывало, что газолином. – Старший качает головой. – Бывало, что казанской смесью. А иногда и спиртом.
– Это что за казанская смесь? – Сашка смотрит удивленно.
– Это, Сашка, адская штука. Керосин, винный спирт и эфир.
– И на спирте, говоришь, летали?.. – Сашка смотрит с лукавым интересом.
– Спирт, Сашка, еще хуже, ежели как топливо. – Старший качает головой. – Во-первых, чадит он нещадно. Летчик после полета как трубочист из самолета вылезал. Потому что спирт быстро воду набирает, горит плохо. Во-вторых, он смазку сильно жрет, так что мотор в любой момент встать может. Ну и пары от него, сам понимаешь, на летчика попадают. Так что, бывало, из кабины летчик вылезал с трудом.
– Пьяным, что ли? – Сашка хмурится.
– Вот именно, – Старший кивает. – И после такого полета ему только отсыпаться часов десять нужно было. А потом, чтобы с этим топливом мотор запустить, эфир был нужен. Считай, что пару литров на каждый пуск. Так что все аптекари в ту пору авиаторов не любили: мы у них постоянно эфир выклянчивали… А у некоторых и реквизировать приходилось.
– А спирт-то небось и пили сами, а, Рудольф Михайлович? – Сашка смотрит на старшего все более лукаво. Тот хмурится и строго качает головой.
– Не понимаешь ты, Сашка, что такое это было – революционная дисциплина! Авиаторы ею всегда славились, не то что золотопогонники под конец Империалистической войны. Вот уж кто пил осенью 1917-го…
– И что, сухой закон у вас был?
– Сухой не сухой, а дисциплина была у нас…
1919. Ст. Подгорная
Рудольф очнулся от паровозного гудка. Тени на стене купе сдвинулись и стали удлиняться, и от этого все позеленело. Его затошнило, и он потянулся к окну: наскрести намерзшего от дыхания на стекле инея. Потер виски. Голова болела нещадно. Где он? Непонимающе обвел глазами купе, от взрыва боли в висках пришлось откинуться назад. Сердце стучало часто, язык пересох. На верхней полке кто-то лежал: оттуда свешивалась безвольно расслабленная рука, доносился храп. А в ногах у Рудольфа кто-то сидел. Кто-то знакомый. Рудольф присмотрелся, не веря глазам, сердце подпрыгнуло. Конон! Друг, хитро улыбаясь, подсел чуть ближе, но руки не подал.
– Ты молодец, Рудя. Нашел их наконец. Теперь осталось найти девчонок!
– А ты все такой же! – Рудольф улыбнулся, стараясь не шевелить головой. – Только о них и думаешь.
– Ты теперь главное держись за отряд. – Конон смотрел с прищуром, как смотрел когда-то давно, в Риге. Еще до Парижа. И улыбался. – И все тогда будет хорошо.
– А ты? Давай с нами! – Рудольф попытался было подняться, но друг остановил его движением ладони.
– Нельзя мне, Рудя. Так надо. Ничего. Мы еще полетаем с тобой, вот увидишь. Ты поспи пока…
Рудольф, чувствуя, как на него темной волной накатывает желание спать, зевнул, а когда открыл глаза, понял, что полка его пуста. Конона в купе не было. Тогда он прикрыл глаза и провалился в тяжелый сон, но скоро опять проснулся от головной боли. Снова соскреб немного снега и потер им виски. Полегчало. Где же он все-таки находится и как сюда попал?.. И куда подевался Конон? Был он тут или пригрезился?
Рудольфа подташнивало, при любом движении голова взрывалась болью. Как он мог так набраться? Где? С кем?! Как он тут оказался? В купе было довольно темно, но свет станционных огней, отражавшийся от облаков и снега, проникая через покрытое изморозью окно, все же давал возможность что-то видеть. Посмотрел на свои сапоги – портянки аккуратно уложены. Значит, раздевался сам. И куртка, натянутая до носа, его. Ну, дела…