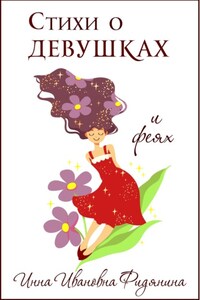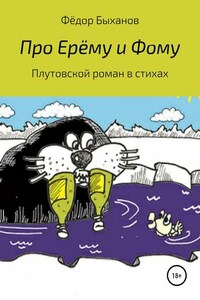Тебе зиму, ему лето
Торговала я планетой:
тебе зиму, ему лето.
Торговала я едой:
тебе кашу. Мне ж в пивной
пенку пенную от пива,
чтобы я была красива,
чтобы я была полна
снегом, ветром, и одна
засыпала, просыпалась,
говорила, улыбалась —
всё любименькой себе
да мерцающей звезде.
Проверяла я себя
на лето, зиму. А весна
улыбнулась: «Ну, встречай,
наливай мне, дочка, чай,
да продай уж всё на свете:
кошку, мужа, дом.» Но дети
посмотрели и сказали:
– Мама, как жила в печали,
так и дальше будешь жить
и не надо ворошить
на планете лето, зиму.
Зыбь – не сон, а пелерина,
ей накройся и сиди
да стихи свои пиши.
Торговала я планетой:
ему зиму, тебе лето.
Торговала я едой.
Рот закрой, иди домой.
Рисовала я сегодня
Я сегодня рисовала
очень древнее чело,
я конечно не узнала
чьё оно? Нет, не моё.
Я сегодня рисовала
сердцу милое чело.
Говорят, что небо пало.
Мне и правда, всё равно.
Плохи эти ваши мысли
о разбитом серебре!
Мне, наверно, показалось,
что сидит оно во мне,
рассыпаясь на осколки,
мелкой проседью во лбу.
Я сегодня рисовала.
А кого? Нет, не пойму.
Серым просветом гуляет
непокорная быль-соль,
никому не позволяет,
стиснув зубы, крикнуть: боль!
Я сегодня прокричала:
ах, как больно, больно! Не,
тут же мне чело сказало:
«Я древнее, боль во мне.»
Рисовала, рисовала
очень древнее чело.
Нет, его я не узнала.
Ты мой муж? Мне всё равно.
Меня стали на улице узнавать
Меня никто никогда не спросит:
«Какой во времени век?»
И я никогда не отвечу:
– Каков человек, такой век.
– И есть ли на сердце рана?
– Не бередит её
ни случайный прохожий,
ни смешное кино.
А когда на дворе очень жарко
(холодно, душно), умно
я разгребаю подарки —
улыбок веретено.
«Проходи, проходимка,
мы узнали тебя,
ты поэт-невидимка,
ты всегда голодна
этим городом пыльным,
лесом, полем!» Давно
смотрю взором остывшим —
мне уже всё равно
на мерцание улиц,
на мелькание лиц.
Нет, никто мне не скажет:
– Почему ты молчишь?
– Я молчу потому что
не узнала тебя,
кто ты: призрак могучий
иль закон бытия?
Подари нам своё бытиё
– Дочь, подари нам кусочек,
кусок своего бытия.
– Я бы хотела, но очень,
очень я занята:
я запираю дверцу
дома, сажусь писать
длинную, длинную повесть
о горе. Вам не отнять
это большое горе
у меня никогда, никогда,
потому что оно, как море,
большое – просто вода;
больше его только слёзы
всех на земле матерей
и девичьи, девичьи грёзы.
Нет этого горя добрей!
– А зачем тебе, девочка, горе?
– Мне оно ни к чему,
но есть у поэтов доля:
«босяками» ходить по дну.
Поэтому я всегда дома,
поэтому и одна.
– Ну подари нам кусочек,
кусок своего бытия!
– Нате, берите ручку,
о бумагу дерите перо!
И о горе моём не забудьте
про лучшее бытиё.
Я сама себе задавала вопросы
– Какая сегодня история?
– Непроходимая боль!
– Какая погода на территории?
– Холод, дожди … уволь!
– Скучно тебе живётся?
– Ну что ты, ведь солнце
светит на этой планете,
а поэтому скоро лето,
когда-то оно случится,
и будет мне материться
значительно легче, поверьте!
– Ты бы сходила в гости.
– В гости? Вы это бросьте,
не до походов долгих.
– А ты была на Волге?
– Нет, не была, но хотела.
Знаешь, ведь я не успела
ничего сделать в жизни.
Вот и стихи повисли
нечитаемой паутиной
очень и очень длинной.
– Длинная паутина.
Ты к чему это, Инна?
– Так, ни к чему, а просто,
просто не ходим в гости
мы никогда друг к другу.
– Я – это ты, подруга!
Хоронить или любить
Не спешите меня хоронить!
Положите на скатерть белую,
и не надо по мне скулить,
я для вас ничего не сделала.
Плачь не плачь, не вырастут розы,
от рыданий завянет цвет.
Некрасиво мёртвую спрашивать:
«Любила кого или нет?»
Не люблю, не люблю, не любила,
только косами травы косила,
косищами травы косила,
никого о том не спросила.
Петлю скрутила, лежу,
никем из людей не спрошенная,
не встану теперь, не пойду —
я трава зелёная, скошенная.
Я бы так век лежала,
но собака мимо бежала,
мимо бежала да разбудила.
И во мне невиданна сила
(не снаружи) внутри раскрылась.
Люди добрые, я влюбилась!
А в кого и сама не знаю,
но по нему скучаю.
Встану, пойду с косою
по деревне, все двери открою
и найду его, хоть за печкой!
Сяду с ним на крылечко,
ни о чем он меня не спросит,
лишь косу стальную забросит
подальше куда-то, куда-то,
а заодно и лопату.
Не спешите меня хоронить,
я для вас ничего не сделала.
Мне б на свадьбе своей побыть
да платье примерить белое!
Десять тысяч некрасавцев
Ой да на нашу раскрасавицу
10 тысяч некрасавцев найдется:
«Мы тебя не сделаем счастливой,
мы тебя не сделаем любимой,
а ежели чего, с тебя же спросим:
почему таки мы нехороши,
почему живем мы небогато,
и пошто у нас кривые хаты,
в рукомойниках вода зачем застыла?
Как же так, царя ты не побила,
и весь мир не превратила в остров,
на котором жить было бы просто!»
Я думала, гадала, сомневалась,
с некрасавцами своими соглашалась,
ну а согласившись, заболела,
заболев, плохую песню спела:
как жила я вовсе небогато,
не имея ни двора, ни хаты.
Кошка воду выпила с корыта.
Вот, сижу больная, не умыта,
а до царской доли не допрыгнуть,
остаётся лишь к забору липнуть
у себя на острове дремучем
да кивать лишь ивушке плакучей.
Отвернулись 10 тысяч некрасавцев:
«Ладно, мы пошли, одна справляйся,
тебе ж не привыкать. Ну, поправляйся!»
Мне не привыкать, я поправляюсь
и на острове своем одна справляюсь:
я медведям плакаться устала.
Села, встала, села, встала, села, встала
и пошла по замкнутому кругу —
ни невеста, ни жена и ни подруга.
Раны
Зализывала я раны
каким-то образом странным:
то пила, то ела,
то в окно пустое глядела.
А жизнь как-то не торопилась
отвечать на «Ты б отпустила!
и не мучила ежедневно
своим временем верным».
А ведь лет было мне – середина.
Я у неба просила:
нет и не смерти даже,
а чтоб старость была покраше.
Но с чего бы ей быть покраше,
когда юность босая машет,
а невесёлая зрелость
кивает на дом, там серость
и полный таз мыла:
«Ты не все углы перемыла!»
И этот круг бесконечный
раны мои не залечит,
боли мои не залижет.
Огонь в печурке всё ближе:
«Кушай, родная, и пей,
нету судьбы добрей,
чем твоя одинокая,
такая, как яма, глубокая!»
То грязь на дворе, то простуда
Когда жизнь похожа на клетку,
это не шутки, детка,
это со всех сторон клетка,
и снаружи мир не менее страшен
в чёрно-белый цвет перекрашен:
там на ветке синице
никак не сидится,
журавлю не летается,
а убийцам не кается;
прошлое с будущим перемешалось,
настоящее не отзывалось,
и вокруг тишина.
Ты искала себя сама.
Не находила.
В тёплый угол свой уходила
и там зачем-то рыдала.
Чего тебе было мало?
Что пропало, то и пропало,
не подберёшь, не склеишь,
дыханьем не отогреешь.
Вот и ходи теперь с богом
всё одним и тем же порогом.
Ключ у тебя с собой,
им свою хатку закрой,
да и сиди в ней тихо:
не пролетит ли лихо,
ворон ли не прокарчет,
дитя ли где не заплачет.
Тебе нет до этого дела,
ты выйти на улицу не захотела,
тебе мир за околицей страшен:
в черный цвет разукрашен.