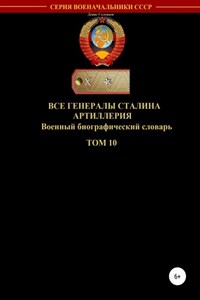Глебушка проснулся оттого, что солнце пекло в глаза. При- щуриваясь, он поискал взглядом очки, не нашёл и вспомнил, что положил их на сиденье своей новёхонькой инвалидной коляски. Он пошарил рукой по вкусно пахнувшему дерматину и нащупал краешек дужки. Еще не до конца проснувшись, потянул дужку на себя, но очки соскользнули с сиденья и шлёпнулись на глиняный пол веранды, рядом с Глебушкиной кушеткой. Стало страшно.
–
Мамка!
–
Не
мамкай,
–
послышался
со
двора
усталый
мамин
голос.
–
Папка!
–
Не
папкай,
–
вяло
проскрипел
из
хаты
голос
отца.
–
Гаврик!
–
Не гавкай! – сонно пробурчал старший брат Гаврила, спавший
возле хаты
под вишней
на
раскладушке.
Мир перевернулся. Этот огромный и радостный весенний мир, наполненный воркованием диких голубей, мгновенно стал страш- ным и непонятным. Пятилетнему Глебу он показался Америкой! Той самой проклятой Америкой, про которую толковали вчера, подвыпив, папка и голова сельсовета Мыкола Григорич, сидя здесь же, на веранде, за столом, когда распивали магарыч.
Мыкола Григорич достал в райцентре для Глебушки настоящую инвалидную коляску! Старая, самодельная, сотворенная папкой из немецкого трофейного велосипеда, была с почетом отправлена на горище, под соломенную крышу. За колеса новой коляски муж- чины пили с осознанием важности проводимого ритуала. Папка с достоинством благодарил голову Мыколу Григорича; Мыкола Григорич таким же чином благодарил Глебушкиного отца за то, что он благодарил его. Магарыч – вершина человеческой нравствен- ности. Основополагающая конструкция человеческих отношений. По крайней мере, в украинском селе.
–
Если бы Сталин не дал приказ остановиться нам в сорок пя-
том, – рубил рукою воздух папка, – мы бы до Америки дошли! Вот
не сойти
мне
с
этого
места, если
брешу!
–
Сталин
был
голова,
–
кивал
голова
сельсовета.
–
И
Жуков
был
голова!
–
кипятился
папка.
–
Жуков?!
–
мутными
глазами
смотрел
на
папку
Мыкола
Григорич.
–
И Жуков был голова, – после паузы кивал он и тянулся к
мочёному
яблочку.
Глеб вспомнил вчерашний вечер. Все от нее, от этой чертовой Америки: и напряженность в отношениях Советского Союза с Ки- таем, и падёж поросят в колхозе, потому что империалисты творят, что хотят! И вот эти очки, будь они неладны!
Глебушка заревел еще громче. В отчаянии он откинул байковое одеяло со слониками, руками подтянулся к инвалидной коляске и рывком, не пойми как, ринулся в нее, чтобы вырваться наружу из этого замкнутого пространства. Коляска качнулась и, раздавив ко- лесом очки, покатилась к двери. Колеса врезались в дверь веранды, она распахнулась и коляска с рыдающим Глебушкой, соскользнув со ступенек, перевернулась.
Мальчик ударился лбом о край стоявшей на земле немецкой каски, приспособленной под поилку для кур. Куры с шумом бро- сились в разные стороны. Каска рассекла Глебушке лоб, и по его лицу тонкой струйкой потекла кровь. Утро началось нелепо, как и вся Глебушкина жизнь…
Он лежал на боку и громко орал. Орал не от боли – он ее не чувствовал. Ему было обидно, что он никому не нужен. Ни мамке с папкой, ни Гаврику, ни дворовому псу Пирату, который невозмутимо лежал возле будки и грелся на благодатном солнышке.
Даже коза, названная папкой в честь малохольной соседки Люсь- кой, пользуясь моментом, деловито объедала цветы собачьей розы.
–
Чтоб ты сдохла, бисова твоя душа! – дернула повод мамка.
Коза возмущенно покрутила рогатой башкой и удивленно посмо-
трела
на
мамку:
–
Лучше
бы
за
детиной
следила,
–
читалось
в
ее
невозмутимых
глазах.
Гаврик сидел на раскладушке, не желая со сна открывать глаза:
–
Чего орешь с утра пораньше?! Спать не даешь, – проворчал,
не глядя
в
сторону
брата, Гаврила.
–
Он всю ночь, как ты, по девкам не шлялся, – пояснил папка,
выходя
из
веранды
и
держа
в
руке
Глебушкины
очки
с
раздавлен-
ными
стеклами.
–
Вот
где
мне
теперь
стекла
достать?!
В
райцентре
их
нема.
В область прикажете ехать? Чтоб вы все передохли! Не люди, а
милиционеры
какие-то!
Папка, решив, что воспитание детей на сегодняшний день на этом закончено, со вздохом положил разбитые очки в карман старого пиджака и с достоинством направился к калитке.
–
Вася, в кухне вареники на столе, – робко крикнула ему вдо-
гонку
мамка.
В ответ папка только вздохнул и, не оглядываясь, чинно вышел со двора. В его руке, как всегда, был потертый холщевый портфельчик – символ принадлежности к числу избранных. Сельский счетовод – это вам не хухры-мухры, – говаривал он. – На это учиться надо.
Глебушка от обиды за то, что на него никто не обращал внимания, плакать перестал. Он сел на землю возле каски, зачерпнул из нее остатки воды и размазал по лбу, чтобы смыть кровь. Лоб защипало, и Глебушка насупился.
–
Да погоди ты, задохлик, – бросила Люськин повод мамка и по-
дошла к сыну. Она каким-то неуловимым движением руки сорвала
подорожник, послюнявила его и приложила ко лбу сына. Потом
сняла с тына кусок застиранной марли, оторвала от него полоску и
ловко перевязала
Глебушке голову.
–
На
Щорса
из
песни
похож,
–
сообщил
Гаврик.
–
Не на Щорса, а на полковника из кино. Я, может, когда вы-
расту,
полковником
буду!
–
А
чего
не
генералом?
–
удивился
Гаврик.
–
Полковник – главнее. Он полком командует. А генерал только
горилку пьет и сало жрёт, – вспомнил чьи-то взрослые разговоры
Глебушка.
–
Значит, наш батька генерал, – осклабился Гаврик и тут же
схлопотал от
матери подзатыльник.
Эстетка Люська, доев собачью розу, принялась за желтые цветки ноготков.
–
Чтоб тебя разорвало, – формально отреагировала на ее об-
жорство мамка, и Глебушка успокоился: утро входило в обычное
житейское
русло.
Вскоре мамка, спровадив Люську на выгон, ушла на работу. Она работала няней в колхозных яслях. Глебушка остался под присмотром Гаврика, которому, в принципе, было наплевать на младшего брата. Гаврила усадил Глеба в инвалидную коляску и дал ему огромный шмат белого домашнего хлеба, политого пахучей олией – подсолнечным маслом, пахнувшим солнцем и мамкиными руками. Хлеб он посолил крупной солью. Соль прилипала к про- питанному маслом хлебу, и ее кристаллы переливались синим и белым цветами. Кушать хлеб было жалко: хотелось смотреть на эту игру света бесконечно. Без очков Глебушке было плохо. Весь двор расплывался, как в тумане. Расцветшие яблони, абрикосы, груши и вишни сливались в большое бело-розовое пятно. Но кри- сталлики соли на хлебе были видны очень хорошо. Правда, для того, чтобы их разглядеть, Глебушке пришлось поднести краюшку хлеба прямо к глазам.
–
Ротом
кушай,
а
не
глазами,
–
наставительно
сказал
Гаврик,
и
сел с учебником географии на свою раскладушку.
Гаврик был хороший. Глебушку, правда, он не особо любил. Про- сто уж больно взрослый был этот Гаврик. И красивый. Он оканчивал одиннадцатый класс. Шел на золотую медаль. Скоро должны были начаться выпускные экзамены, но Гаврик к ним не готовился. Он читал только учебник географии, потому что мечтал стать великим мореплавателем. Мамка говорила, что Гаврик – бабник, что девчата его до добра не доведут: либо какая-нибудь от него забеременеет, либо чей-нибудь батька ему рыло начистит. Глебушка не очень представлял, как это можно от Гаврика забеременеть. Это, как зараз- иться простудой, что ли? Он слышал от взрослых, что заражаются простудой, когда целуются.