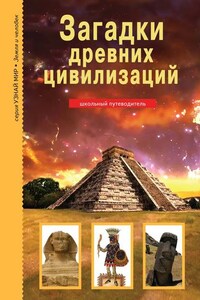Кем должен быть твой ребенок?
Борцом или только работником?
Командующим или рядовым?
Или только счастливым?
Януш Корчак
Он был послушным мальчиком из обычной советской семьи. К большому несчастью, в подростковый период потерял отца – инфаркт. Все рухнуло в один день. Нет отца, нет силы. Теперь он должен стать послушным и быть опорой для убитой горем матери. Все лишнее, пустое отбросить и бриться каждый день: повзрослел он на удивление рано, первая поросль на лице появилась уже в тринадцать лет.
Маму нельзя расстраивать, ей очень тяжело жить и поднимать сына одной, а ещё работа учителем: школа – тетради – ученики – дом – школа.
Не до разглагольствований, учись, сын, учись. «Тройка» не твоя оценка, только «хорошо» и «отлично». Так бы сказал тебе и отец!
После школы обязательно институт, медицинский. Приложи все силы, нервы, вырви жилы, но поступи.
Так и сделал сын, поступив в медицинский и надев на себя белый халат.
Студенческая жизнь в шальные девяностые была непростой, полуголодной. Но сколько выделено матерью на пропитание, столько и будет. Ни больше, ни меньше. Замёрз – согрейся.
Его это не тяготило, он мог делать все и работать везде, силы и здоровье позволяли.
Закончил институт, женился, вернулся в родные места работать врачом. Мать заранее сходила в Департамент и выбила для сына целевое место в районной больнице.
Работа нравится, читать нравится, смотреть патологию – нравится. Но что-то не то, что-то скребёт внутри.
Вопросы о своём месте в огромном мире, о предназначении. У матери не спросишь, смешно слабость показывать, да и не время. Она уже больна, рак молочной железы. Когда он смотрел ее клетки в микроскопе, диагноз не поставил. Почему? Он испугался. Может, это просто так они делятся? Может, это доброкачественный процесс, но с изворотом?
Да, закрыл глаза и не поставил. А через полгода метастаз в подмышку не оставил сомнений – это рак.
Мать билась за жизнь почти пять лет, а он боялся. Набирался смелости и молчал, когда она приезжала к нему в гости после курса химиотерапии. А когда уезжала, он начинал пить. И все случилось как-то легко, под гитару и рок-оперы. Но каждый раз все дольше и дольше. Она снова приезжала, а он прятался от неё. Мать бессильно плакала в его кабинете заведующего отделением. Она уже не была той строгой и несгибаемой учительницей, все осталось в онкодиспансере. В ее глазах был страх за сына: как же он останется без нее, как же эта беда с алкоголем. Стыдно перед людьми! Как спасти его, почему жена не понимает – нельзя ему пить, никак нельзя. Потому и она с рюмочкой посиживает и праздники любит. Откуда это в ней? Беда пришла, беда. Но была отрада – внучка, которая так ладно и правильно говорила. Любила она ее невыразимо сильно.
Умирала мать далеко, в новом доме, который полжизни строила, пока работала на Севере, но пожить в нем так и не привелось. И он не успел приехать до ее последнего вздоха, но, я думаю, что она пожалела его, укрыла материнской любовью от этого животного страха смерти.
Прошло время, он читал ещё больше. На его столе появились Карамзин, Достоевский, Климов, учебники истории.
И тут все понеслось, как снежный ком. Каждый день он приходил на работу, до краев наполненный чувствами от осознания и обретения нового пути. Он чаще и чаще говорил о манипуляции умами людей через религию. Листал различные источники языческой литературы: боги солнца, огня, воды. Сила их ему казалась неисчерпаемой. В один из дней он снял крест, и вошел в крутой поворот своей жизни, как мотоциклист на скорости.
– Кто есть Бог, ты знаешь? – спрашивал меня, недоумевающую от таких бесед. – Или что такое для тебя Бог? Ты же даже не думала! Тобой манипулируют, управляют. Для церкви ты овца, а овцы должны быть в стаде. Вот и ходите отарами на поклон. Ты сама задумайся, а не смотри так на меня.
Я о таких вещах не задумывалась никогда, у меня все проще. Я верю и все. Но его моя слепая вера с каждым днём раздражала все больше и больше. Он читал мне выдержки из Климова, приводил доводы, что распятия Христа не было, и все это байки. Под конец он пошутил как-то очень зло: «Твой Бог перед распятием тапочки домашние снял и аккуратненько возле креста поставил».
Я ничего тогда ему не ответила, мне было очень страшно. Я понимала – это не безумие, это отречение от Отца. Куда страшнее, чем безумие.
– Ты знаешь, в чем моя сила? – резко спросил меня он. Потом другой повторит эту фразу, не меняя порядок слов. – Моя сила во мне и моей женщине. Я стержень Мира, я Бог и Вселенная для себя и своей семьи, а не ваш Иисус Христос.
Я не знаю, что значит гордыня и богохульство, не причисляю себя к праведникам, но эта фраза выбила почву из-под моих ног. «Бунт Каина, бунт Хама, бунт сына против отца».
Прошло время, внутренний рост его продолжался с неистовой силой. Его непринятие Бога усиливалось.
А после случился срыв, запой и его уволили. Для меня это стало большим потрясением.
Однажды утром раздался стук, осипший голос шептал: «Арифовна, это я, впусти..!»
Месяц запоя отразился на его лице: длинная щетина, заострившийся нос. Его плечи поникли, он зашёл, ссутулившись, опрокинул стул у входа.
Несколько дней он приходил в себя в детской, несколько дней я бегала между нашим домом и его. К сожалению, его жена тоже была в том же потерянном состоянии.
Настало время перемен, и каким-то чудом одна из больниц решились взять его на работу после моих просьб.
Это время для него было невероятным подъемом, он с воодушевлением рассказывал о новом месте работы, о том, как там интересно. Жалел меня, застрявшую в болоте рутины районной больницы. Диагнозы, случаи, консультации – все было на порядок выше, интереснее, чем здесь, «на помойке», как он нарек свое прежнее место работы.
Я благодарно выдохнула.
Но через три месяца, ночью раздался звонок. В трубке я услышала его страшный голос: «Арифовна, ты? Маша сейчас умерла. Что делать?»
Через сутки я была возле него, махнув 900 километров по заледеневшей трассе.
Он спал на кроватке своего сына, свесившись на половину. Я тронула его плечо. Он вздрогнул как-то по-детски.
– Маша…Сердце видимо. Ты как думаешь, кардиомиопатия?
– Я приехала к тебе, давай будем хоронить Машу. Где она?
– У нас, в морге. Ее уже вскрыли. Что делать, Арифовна?
Я не знала, что ответить, и сейчас не знаю.
Были похороны, земля полузастывшая, и он в тонких туфлях с отошедшей подошвой, промокший от липкого снега. Не было молитвы, не было надежды.