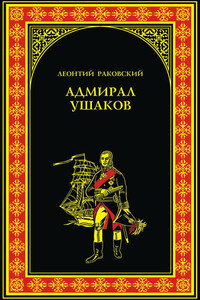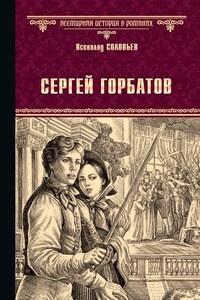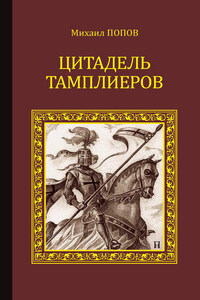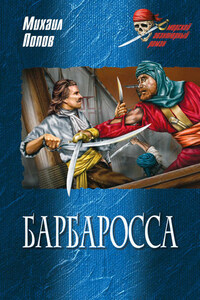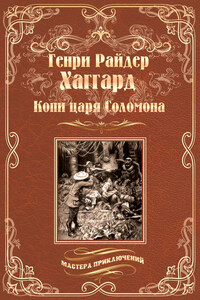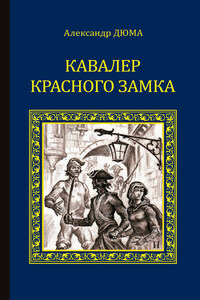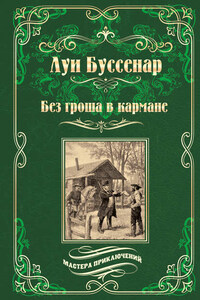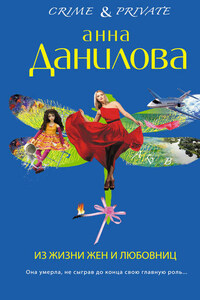Обнаженный мальчик сидел на дальнем конце старой земляной дамбы, уходящей прямо в звездное небо. Сидел как ученик, поджав под себя ноги, положив руки на колени, и смотрел в то место, где должна была перед самым восходом солнца сверкнуть звезда Сопдет[1]. Это будет означать, что слезы Изиды пролились и теперь начнет прибывать вода в реке и каналах, а потом каналы исчезнут, и вся округа превратится в одно бескрайнее водное поле красно-бурого цвета.
Мальчик молился, чтобы это случилось как можно скорее, ибо великая река почти пересохла, земля сделалась твердой, как обсидиан, коровы ревут в загонах, народ впал в уныние, львы выходят к берегу Хапи на водопой прямо между хижинами бедняков Хут-ка Птаха. Жизнь повсюду уподобилась смерти.
Мальчик знал, что миновал только второй из дней Тота и звезда Сопдет будет медлить еще три ночи; он знал, что ему сегодня, как и вчера, не дадут дождаться рассвета; сейчас по хребту насыпи от дворцовой ограды сюда, в самое сердце ночи, прибегут стражники, обнаружившие его отсутствие при обходе малых спален, но молился жарко, как будто молитва эта была самым важным делом на свете.
Маленькая посеребренная статуэтка на фоне звездного неба. В пяти локтях внизу слева стояла тяжелая затхлая вода на дне канала, справа жила своей сухой, сложной жизнью стена папируса. Воздух был густой, тяжелый и несчастный, и мальчику казалось, что он прислушивается к каждому слову его молитвы. Звуки, обыкновенно доносящиеся в этот час из зарослей, с реки, из-за ограды дворца, в этот момент затаились, и тишина сделалась сплошной и осмысленной, она как будто ждала чего-то от маленького гостя. Мальчик начал шептать еще жарче и в уголках глаз появились две горячие капельки, мальчик был благодарен всему миру за тихое участие в его деле.
Справа и чуть сзади, в насекомом храме папирусовой чащи, раздался шорох. Натянутое полотно детского слуха испуганно дрогнуло. Это не рыба. Это не орикс. Это не птица. Ширящийся шорох сообщал о ком-то громадном, кто осторожно, но мощно прокладывает себе дорогу в тростнике.
Молитва мальчика прервалась сама собой. Он хотел было вскочить и броситься вдоль по тропинке, что шла по хребту дамбы к дому, но этот, в тростнике, замер и тем обессилил ноги молившегося. Он даже голову боялся повернуть в ту сторону.
Крокодил!
Как он мог попасть в дворцовый канал?! Мальчику приходилось видеть, как на главном водозаборе стражники отгоняют обратно в реку желтобрюхих тварей, пытающихся проскользнуть в охраняемые воды. И всегда боялся, что какому-нибудь из чудищ удастся перехитрить или пересилить кóпья. Решился бы он прийти сюда, зная, с кем ему придется повстречаться?
Может, все-таки броситься изо всех сил к дому?
Но невидимый крокодил успеет выскочить наперерез. Мальчик не раз видел, как шустро они могут бегать по суше, когда им нужно. Крокодил специально устроился в том месте, откуда удобнее всего напасть. Он уже увидел, что ему нечего бояться, здесь нет людей с оружием, один только мягкий, обнаженный ребенок, и бежать ему некуда.
И тут раздался из кустов голос:
– Как зовут тебя, мальчик?
Голос был низкий, как бы шершавый и немного неправильный. Могло показаться, что это не только не египтянин, но и не человек. Мальчик не знал, следует ли ему отвечать, но сказал:
– Меня зовут Мериптах.
– Как тебя звали прежде?
– Я давно ничем не болел, поэтому мое имя не менялось.
– Кто твой отец?
– Мой отец Бакенсети, он князь Хут-ка Птаха, правитель нома Зайца.
– Это его дворец там, в конце дамбы?
– Это его дворец. Есть еще один, на северном краю города, и еще есть два дворца, один на острове, другой на берегу озера Фаюме. Мой отец Бакенсети любезен сердцу фараона и чтит его в своем сердце, и лежит перед ним ниц. И недавно пожертвовал храму Сета новые заливные пастбища.
– Да, твой отец чтит своего господина.
Крокодил говорил медленнее, чем человек, что и понятно ввиду громадных челюстей, через которые ему приходилось выпускать слова. Что-то дрожало и таяло в груди Мериптаха, когда он слышал этот голос, и он готов был рассказать много такого, чего ни за что бы не стал сообщать первому встречному, окажись он даже важным господином.
– Что же ты тут делаешь один в такую пору?
Мальчик сказал, что молился о том, чтобы поскорее показалась на небе звезда Сопдет и начала прибывать река. А потом, безо всякого перехода, поведал, что у него сегодня был хороший день, вместе со своими приятелями Бехезти и Рипу, сыновьями дворцового повара и шорника, он охотился на хитрых болотных куликов с помощью деревянной пращи и всех превзошел в меткости; а еще учитель Неферкер похвалил его при всех в «Доме жизни» за то, что он отличился и в писании, и в счете. Он давно уже превзошел и тех учеников, что приходят в «Дом жизни» по утрам, и тех, что живут там постоянно. Он хотел добавить, что постоянные ученики готовятся стать княжескими писцами, а он превзошел их не только в египетском, но и… Однако решил, что крокодилу эти подробности не интересны.
– Ты любознателен, Мериптах, сын Бакенсети, – выдохнуло чудовище в кустах.
И мальчик умолк, и ему стало еще страшнее, чем было. Пока он говорил, то был уверен, что его прямо сейчас не съедят. Что будет теперь? Повернуться лицом к кустам было по-прежнему страшно. Прозвенело несколько мгновений полной тишины, про которую мальчик совсем уже не знал, что думать. Было только ясно, что крокодил не сделался ни дальше, ни ближе, ибо не донеслось ни единого шороха. Может, он думает, когда так тихо?
– Не хочешь ли ты отправиться со мною, Мериптах? Я покажу тебе настоящие чудеса, все страны и все царства. Ты увидишь такое, о чем твой учитель даже не слыхал.
Голос звучал еще глуше и тяжелее, чем прежде, словно чудовище говорило через силу. Мериптах решился возразить этому, казалось, полностью над ним властвовавшему голосу. Нет, конечно, не возразить, а лишь жалобно попросить не настаивать на этом заманчивом предложении, ибо остались у него еще важные дела. И во дворце, и в храме Птаха, где ему доверено присматривать за солнечными часами, остались у него друзья, уже упоминавшиеся Бехезти и Рипу, и еще делатель глиняных свистулек Утмас, лучший друг. И главное, он очень не хотел бы огорчать свою красавицу матушку и великолепного щедрого отца и пугать их своим исчезновением, столь похожим на неблагодарность.