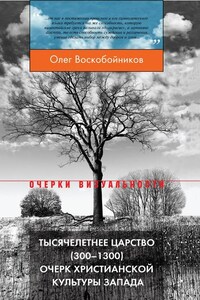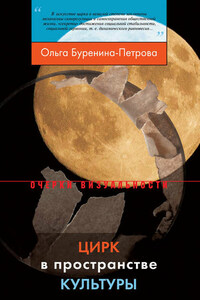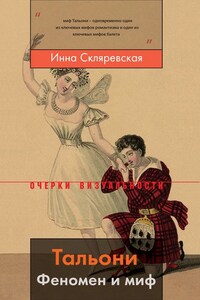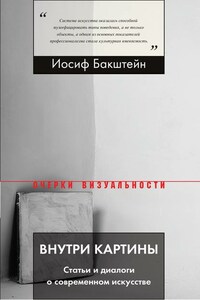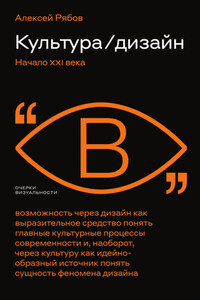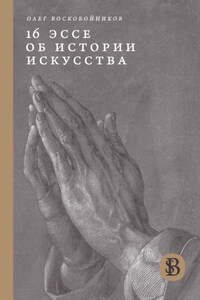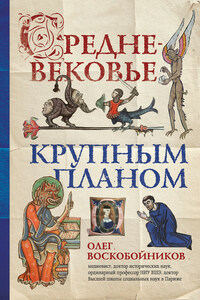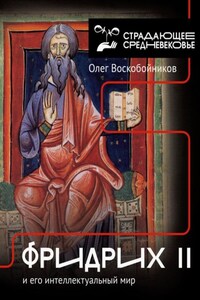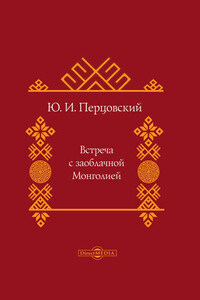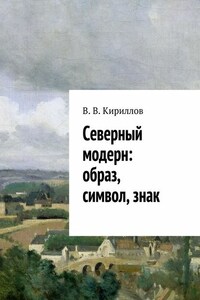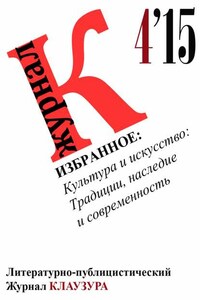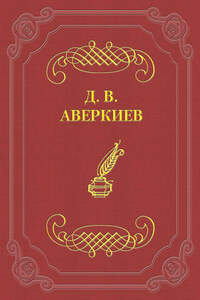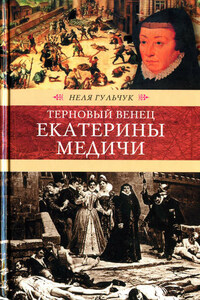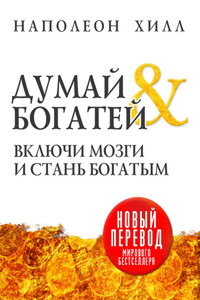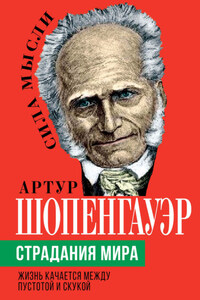Дописав «Тысячелетнее царство» и переведя дух, я решился заглянуть в мои университетские конспекты середины 1990-х гг. и понял, что книге двадцать лет. Истоки ее, некоторые заново сформулированные в ней мысли я нашел там, в лекциях, семинарах и выступлениях ученых – историков, филологов, философов, историков искусства, – которые ввели меня, студента, в курс дела: А.Я. Гуревича, М.А. Бойцова, Г.Г. Майорова, Г.К. Косикова, О.С. Поповой, потом А.А. Сванидзе, О.И. Варьяш, Л.М. Брагиной, Н.Ф. Ускова и других преподавателей кафедры истории Средних веков МГУ. Все они, каждый по-своему, научили меня вчитываться и всматриваться, чаще задавать вопросы, чем давать ответы, судить не осуждая. К счастью, нахождение в одном корпусе нескольких гуманитарных факультетов, как и не перегруженная тогда пятилетняя программа, позволили мне поучиться не только на своем этаже, но и на соседних, усвоив хотя бы частично понятийный аппарат и методы коллег-гуманитариев. Личное дружелюбие и гостеприимство многих из них (О.И. Варьяш, Л.М. Брагиной, О.С. Поповой, Т.П. Гусаровой) сделали меня в студенческие и аспирантские годы завсегдатаем разного рода формальных и неформальных семинаров и вечеров. Все, чему я тогда научился в Москве, путь, пройденный бок о бок с моими однокашниками, теперь братством пера (А.Ю. Виноградовым, Л.К. Масиелем Санчесом, Е.В. Калмыковой, Г.А. Поповой и многими другими), так или иначе отразились в лежащем перед читателем тексте.
Есть, однако, в моем замысле и одно не сразу заметное противоречие, в котором мне следует признаться с самого начала. Нас учили концентрироваться на малом, любое обобщение позволялось лишь в рамках введения какого-то конкретного события, текста или образа в «исторический контекст». К счастью (как я сейчас понимаю), никому из моих учителей не приходило в голову давать мне задание написать эссе, скажем, о крестовых походах, немецком романтизме или древнерусской живописи XV в. Сейчас такое эссе фабрикуется опытным студентом за несколько часов: главное – шрифт при скачивании унифицировать и поменять местами слова. Даже если на истфаке МГУ никогда не было культа неопубликованного, неизведанного документа, как в парижской Школе хартий и подобных ей архивных институтах, из нас растили эмпириков, и всякую мысль мы должны были подкреплять, во-первых, историческим источником, во-вторых, мнениями исследователей, высказывавшимися по поводу приглянувшегося нам текста или изображения. Эта исследовательская матрица проста и понятна, более того, она ничем не отличается от французской научной модели, с которой я вплотную познакомился на рубеже тысячелетий, учась в Париже. Те же знаменитые «Анналы» (Шмитт, Пастуро, Баше), гуру нескольких поколений гуманитариев, в университетских классах оказались такими же «занудами», как мои московские учителя. Мы медленно читали и комментировали латинские тексты, так же медленно описывали и анализировали памятники средневекового искусства.
Но как написать книгу о средневековой культуре, руководствуясь инстинктом любое высказывание подкреплять сноской и желательно исчерпывающей библиографией на семи языках? Я решился на своеобразный компромисс. Цитаты из раннехристианских и средневековых текстов, как увидит читатель, занимают довольно много места, иногда они даже навязчиво пространны. Поскольку в гуманитарных науках принята система нумерации книг, глав, параграфов, иногда даже отдельных фраз древних текстов, именно эти координаты я постарался дать по возможности везде, выверив большинство текстов по добротным критическим изданиям последних десятилетий, однако не стал отягчать и без того объемную библиографию. Любой мой коллега поймет, что список источников по выбранному мной сюжету будет не более чем выборкой из моих собственных исследовательских и литературных пристрастий, но по указанным сочинениям и параграфам он без особого труда найдет анализируемый фрагмент. Я старался по большей части давать тексты в собственном переводе либо указывал переводчика, изредка позволяя себе корректировать чужие переводы, если того требовала логика повествования и если русский текст представлялся мне в чем-то спорным.
Точно так же, говоря о памятниках искусства, в основном в моих фотографиях, я иногда позволял себе довольно пространные описания, для того чтобы читатель не воспринимал их просто как сопроводительные иллюстрации: их функция в этой книге совсем иная! Как и с текстами, их подбор – дело сугубо индивидуальное, следовательно, субъективное. Здесь есть и шедевры, есть произведения, почти никому не знакомые. Степень их репрезентативности – на совести автора.
Другое дело – исследования моих предшественников и современников. Предлагаемый очерк, претендуя на определенную оригинальность, не может не быть и в чем-то компиляцией, как бы неприятно ни звучало это слово для моего университетского уха. Всего знать невозможно. Видя на полях номер из библиографического списка и номер страницы после запятой, читатель поймет, кому я следую или с кем спорю, предлагая какую-либо интерпретацию. Познакомившись же со списком в целом, он, надеюсь, признает, что меня трудно уличить в приверженности к той или иной школе, национальной или методологической. Я одинаково люблю «варбургианцев», «Анналы», Карсавина, Гуревича и великих немцев поколения 1900 г., большинство из которых (но не все) бежало из нацистской Германии и присоединенной к ней Австрии. Одной из задач «Тысячелетнего царства», если угодно, методологической его составляющей была попытка осмыслить и применить в собственном поиске самые разные подходы к средневековой культуре. Поэтому иногда повествование прерывается краткими историографическими экскурсами и размышлениями почти теоретического характера. Как бы я ни был далек от чистой методологии и теоретизирования на тему истории, в некоторых случаях такие экскурсы показались мне необходимыми, хотя бы для прояснения терминологии, для того чтобы не навязать прошлому представлений нашего времени.
И последнее. В этой книге множество отсылок к современным реалиям, даже к тривиальной трамвайно-кухонной повседневности Москвы и Запада. Этот прием читатель волен толковать как captatio benevolentiae, возможно, он отнесется к подобному заигрыванию со вполне объяснимой иронией. Прием этот отчасти оправдан пятнадцатилетним опытом преподавания в МГУ, 57-й гимназии, некоторых университетах Запада и, с 2007 г., на разных факультетах Высшей школы экономики. Преподавателю ведь нужно привлечь внимание студента (точнее, в последнее время – отвлечь его от любимого планшета), пробудить в нем искру любопытства, наладить, как говорится, «диалог эпох». Стараясь честно описать Средневековье на его собственном языке, я понимал, что говорю я на языке моего поколения, даже не всегда совпадающем с языком моих слушателей. Многое пришлось закавычивать, не только цитаты, но и, казалось бы, простые, привычные нам слова. Тем не менее я старался избегать специфической терминологии, ища путь к сердцу не только коллеги-историка, искусствоведа или филолога, но и любого другого читателя, привычного к современной гуманитарной литературе.