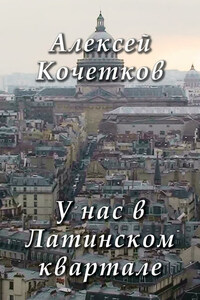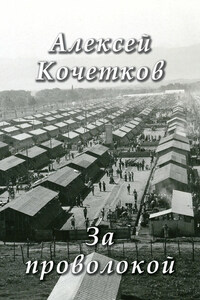Шаю[1] у нас на агро – в Национальном агрономическом институте – более чем скромные. Лекционный зал института лишь изредка сотрясают веселые дружные крики:
– Блестяще, профессор!
– Гениальный вывод!
– Это делает Вам честь!
С минуту мы восторженно вопим, грохочем ногами, стучим по пюпитрам, которые амфитеатром спускаются вниз. Потому что шуметь – наше традиционное неотъемлемое академическое студенческое право. Потому что все это здорово! Так лучше запоминается. Потому что мы молоды.
А за окнами, за истертыми временем до свинцового блеска окнами, тихая рю Бернар. Окраина Латинского квартала.
Национальный агрономический институт.>*1
Лекционный зал.>*2
Студенты Национального агрономического института (1934 г.).>*3
Сюзанна Хаас, выпускница Национального агрономического института 1936 г.>*4
Профессор, с обычным для французов красноречием красиво закруглив фразу, привычно призывает нас к порядку. Улыбается, шутя поднимает руки вверх: «Сдаюсь». Шум, так неожиданно возникший, привычно затихает. Занятия, обязательные для нас, лаборантов фитопатологической лаборатории, продолжаются. А я ищу глазами Жаклин.
Да, шаю у нас очень и очень скромные. Все скажут. Таким, скажут поборники древних студенческих традиций, могут довольствоваться только эти неотесанные мужланы-агрономы. У них половина провинциалы и полно метэков (иностранцев). Они один день в Париже, другой – на своих огородиках под Версалем. Ни на су[2] выдумки! Далеко им до студентов Сорбонны! Все знают, как одеты медики на их ежегодном балу. Только на профессорах, да и то на тех, кто постарше, римские тоги. Все остальные – в чем мать родила.
Да! Настоящее студенческое веселье только на факультетах Сорбонны! Там и сейчас, в это сумбурное время, чтут настоящие традиции.
К примеру, юристы. У них что ни лекция, то мировая проблема. Роскошный повод пошуметь, поспорить, устроить действительно парижское шаю.
– Вы слышали, что он опять отколол?
– Это возмутительно, позор!
– Значит, хороним?
– Да, да! Немедленно! Он для нас умер!
Назначен день «похорон» опального профессора. Расклеены самодельные изощренно ругательные «траурные» объявления. Имя впавшего в немилость будет предано «анафеме». Это на «панихиде», которой закончатся «похороны». После шутливых, порой остроумных, речей «труды» и «гроб» покойного полетят в Сену.
Попробуйте протолкаться в день «похорон» сквозь густую разноцветную разноязычную стенку молодежи, ближе к краю тротуара. «Пардон! Разрешите?» На бульваре Сан Мишель, а по-нашему бульмише. В первые ряды, где, естественно, медики. Гривастые, размеренно попыхивающие длинными трубками, медики. Их кафе здесь рядом. Они величаво опираются на льнущих к ним расфранченных душистых подруг. Посмотрим, что отчебучат юристы.
Вот с площади Пантеон на бульмиш уже заворачивает костюмированная головная группа их процессии. Рядом с живым парижским ажаном (полицейским) в накидке и с белой резиновой дубинкой под ней – блестящий «мажордом» в треуголке и с белой импозантной булавой. За ним «прелат», который изрыгает богохульственные слова, поглядывая в «требник» – толстенный телефонный справочник.
На пурпурных атласных подушечках несут «ордена» покойного – непотребности мужского и женского пола, вырезанные из моркови и свеклы. За «гробом», не менее игриво оформленным, – боевой конь «усопшего» – какая-нибудь крохотная игрушечная лошадка, которую тянут на толстенном просмоленном морском канате.
А вот и шаю – задорный эксцентричный танец. Его отплясывают «плакальщицы» – девицы из определенного рода заведений, скорее раздетые, чем одетые. Их наняли для процессии, и они старательно выкамаривают – имитируют своих товарок по ремеслу – жриц любви раннего средневековья.
За музыкантами, прочувствованно играющими, одетыми кто во что горазд, толпа орущих студентов.
…Нет что-то Жаклин сегодня на лекции…
Здание, в котором находилось кафе «Дюпон».>*5
За процессией вниз по бульмишу – к набережной Сены, мимо популярного студенческого кафе «Дюпон» можно и не ходить. Мимо кафе и шумных, поющих, пахучих днем, улочек кварталов бедноты. Где ночью на любом углу и почти в каждом подъезде мужчину может остановить дамочка в яркой сверкающей кофточке-блузке и плотно облегающей бедра короткой распахнутой сбоку юбке, на высоких звонких каблуках.
– Тю монт, мон коко?! Может быть, поднимемся ко мне, петушок?
За процессией к Сене, где завершатся шуточные «похороны», можно и не ходить. В сущности, это дело юристов.
Но посмотреть на это зрелище все же стоит.
…Нет, Жаклин сегодня на лекцию, очевидно, не придет…
Особенно, если ты совсем недавно в Париже. И попал, как говорится, «с корабля на бал». Из захолустья, с Севера. Из Латвии-«Клятвии» (ах, это где-то у Северного полюса!), которая за годы учебы в Тулузе и из-за недавнего фашистского путча-переворота[3], стала чужой и враждебной. И за год военной службы в этой Латвии-«Клятвии» уже забыл, как это можно вот так, всем вместе, беспечно дурачиться и требовать к себе внимания и безнаказанно запруживать проезжую часть бульвара…
И все это, когда в мире твориться такое!
Когда ты страшно рад, что снова во Франции, правда, сейчас совсем ненадолго, снова на свободе, и после казарм, скуки и серости, и всего того, что там увидел, открытым сердцем и ртом ловишь этот бодрящий ветер галльского веселья и свободолюбия. И хочешь перед отъездом домой – в Москву – на настоящую родину, которую всегда помнил и ни на что нигде не менял, тряхнуть стариной и опять почувствовать себя студентом. Но не тулузским, а парижским! Вот это да! Такого, как здесь, у нас, в нашей древней, немного сонной, больше торговой, чем промышленной, но в общем-то нашей студенческой Тулузе, не могли себе позволить даже физики-математики – наши соседи – народ как на подбор отчаянный и буйный…
Да, следует посмотреть на эту процессию еще и потому, что эти беззлобные вспышки студенческого веселья, проявления древних академических традиций в последнее время уже редкость.
В наше сумбурное, тревожное время…
Ох, не придет все-таки сегодня Жаклин!
«Мы накануне решительных схваток… Надо отстоять, укрепить и развить демократию… Народную… В прошлом году мы им сказали решительно: „НЕТ“, – Жаклин всегда делает при этом серьезное лицо, и это ей очень идет. – Тем, кто, как в дурацком рейхе, решили, что пришло их время… О! У нас в феврале здесь в Париже с фашистами дрались не на шутку… Не то что у вас там в Тулузе».
Ладно, я не обидчив. Я, как все мы, встревожен. Особенно после всего увиденного сначала в казарме, а потом, проездом в Берлине: успехами глупенького шовинизма, преследованием инакомыслящих, бряцаньем оружия.