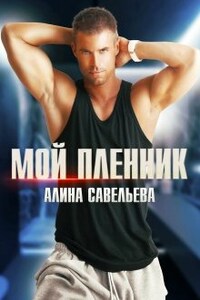– Ваша фамилия?
– Сверлов.
– Имя, отчество?
– Дмитрий Михайлович.
– Год и месяц рождения?
– 1924, 23 февраля.
– Где работаете?
– В автотранспортном техникуме.
– Участник войны?
– Участник.
– Подождите минуточку.
Медицинская сестра, дежурившая в регистрации приёмного покоя пульмонологического отделения республиканской больницы города Уфы, встала, закрыла окошечко регистрации и куда-то ушла.
Он сидел на медицинской скамейке, откинувшись к стенке холодного приёмного покоя, куда его привезла скорая медицинская помощь.
«Участник войны, – подумал он, – такой, вроде бы, и далёкой, но, оказывается, такой близкой, что до сих пор не отпускает». Вздохнув, оглядел пустой приёмный покой и вновь усмехнулся: «Слово-то какое придумали – покой! Какой тут, к чёрту, покой?! Покой будет там, на погосте…» «По-кой, по-гост. По-кой, по-гост», – застучало в его голове, как будто стук колёс… Он выпрямился, вспомнив, как тогда, в сорок четвёртом, он, младший лейтенант, выпускник военно-пулемётного училища ехал в поезде к месту назначения. «Как это было?..» – задумавшись, вновь прислонился спиной к стенке приёмного покоя.
Баюкающий стук колёс и мягкое покачивание вагона. Мимо пролетает унылый, однообразный, серый пейзаж. Душно и тесно.
Станция Обозерская. Ночью, лёжа на столах привокзальной столовой, четыре часа ждём мурманский поезд, который, к несчастью, опаздывает.
Толкучка при посадке, и снова маринование в душном, до отказа набитом вагоне.
Станция Вонгунда встретила четырёх комсоргов-выпускников Архангельского военно-пулемётного училища (АВПУ) утренним ядрёным морозцем. Вновь пригородный поезд и бесконечная дорога с желанием хоть как-то согреться.
Город Онега. Политотдел 291-й стрелковой Гатчинской Краснознамённой дивизии. Неожиданно быстрое назначение в 309-й стрелковый полк, и снова путь на Обозерскую.
Вновь станция Вонгунда – ожидание и безделье, песни и совсем беспричинный смех.
Заходим с ребятами за перегородку, отделяющую санитарную часть от общего зала. Там две девушки просматривают пассажиров на педикулёз и выдают необходимые для получения проездного билета справки. Рядом с ними печь, весело шумящая языками пламени, излучает ласкающую тело теплоту.
– А что, девчата, – начал Пашка Сиротин, – много тут у вас завшивленных граждан?
– А вы кто, контролёры-ревизоры? Пришли вшей считать? – девчата засмеялись.
– Да уже не так много, как было раньше. Морозец многих побил, – ответила одна из девчат и добавила, – вшей.
– А присесть к печурке можно? – с напором продолжил Павел, – Не пустите к теплу? А то жрать так хочется, что переночевать негде!
Все рассмеялись. Обмен шутками позволил подготовить почву для знакомства. И так, полушутя-полусерьёзно одну из девушек уговорили заварить чайку. Пошли к ней на квартиру. Пока забирались на горку, познакомились ближе. Она оказалась студенткой медицинского училища.
Квартирка холостяцкая с одной кроватью, покрытой тюлевым покрывалом; кисейные занавески на одном широком окне. Горка книг на столе. В углу – гитара.
Разделись, достали сухой паёк, и через пять минут аппетитно прихлёбываем из стаканов чай, подливая его из пузатого чайника.
Закончив чаепитие, Пашка взял в руки гитару. Немного поднастроив её, он, неожиданно для меня объявил:
– А сейчас для вас споёт почти народный артист, «орденопросец», гроза фашистов и любимец архангельской публики – Димитрий Сверлов! Аккомпанирую я, – привстав, он поклонился в разные стороны.
– Ой, ребята! Так вы из Архангельска? – всплеснув руками, весело спросила Зина.
– Из Архангельска – мой «знаменитый» друг, а мы – «пскопские»! – Павел вновь приподнялся и театрально поклонился девушке.
– Да брось ты, Пашка, дурака валять! – сказал я. – Чего петь-то будем?
– Народный согласен! – чумным голосом заорал Пашка и, узрев, что я стал сердиться, взял аккорд: – «Чёрные косы!»
Я любил петь и поэтому, не споря с ним, начал:
Чёрные косы имела
В них чёрные ленты вплела,
Милого крепко любила,
За что и в могилу сошла.
Он был из семьи коммунаров,
Она же – кулацкая дочь,
И как же сошлась эта пара,
То знает весенняя ночь.
Два часа пролетели незаметно, и мы нехотя вернулись на станцию. Ещё через пару часов погрузились в теплушки, и с девятого декабря в ночь на десятое я распростился с милым Севером, стоя в дверях шестнадцатитонного грузового вагона.
Мимо меня уходила в даль знакомая до мелочей привычная жизнь, а за моей спиной в сутолоке людей связного штаба, спешивших закончить последние работы по обустройству, начиналась жизнь – новая, неведомая, с очень часто меняющейся обстановкой.
Северный ветер в последний раз обдул моё лицо, бросив в него горсть колючего снега, а северные звёзды в сужающийся створ закрывающейся двери подбадривающе мерцнули: «Держись, Димка!» И началась жизнь на колёсах.
– Дмитрий Михайлович! Дмитрий Михайлович!
Он открыл глаза. Рядом с ним, тряся его за плечо, стоял дежурный врач и девушка-регистраторша.
– Пойдёмте, я провожу вас в душевую, а затем в палату, – сказал врач.
– Да я сегодня уже принимал душ.
– Всё равно. У нас так положено, что все больные обязаны принять душ и переодеться в наше бельё.
«Ну вот, уже и больной!» – невесело подумал он. Потом встал и, подхватив свою сумку с вещами, пошёл за доктором. Через полчаса он был одет в больничную пижаму и помещён в четырёхместную палату, где спал всего один сосед.
«Утром познакомлюсь», – подумал Дмитрий Михайлович. «Утро вечера мудренее, – откуда-то пришло на ум, и он закончил эту пословицу многим людям неизвестными словами: – Кобыла мерина удалее!»
Лёг на кровать. Спать не хотелось. Наплывали воспоминания полувековой давности.
Город Вологда! Затем суточное болтание по Московской окружной железной дороге. Реутов – пригород Москвы. И опять неизвестно сколь длительное стояние.