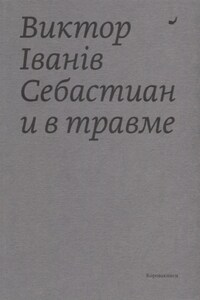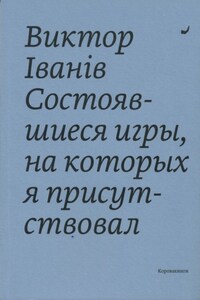Он спал под тяжелым бархатистым одеялом, всю ночь в нем барахтаясь, а на соседней кровати гостиничного номера дрыхал Михась. Они незлобиво поговорили друг с другом о том, что в гостинице нету завтраков, но это уже после пробуждения. И возникла мысль, как заплатить за гостиницу, ахнул было и присел, но вспомнил тут, так, что подбросило до потолка и закачало тусклую люстрицу, что деньги есть, много, но все крупными купюрами с круглыми цифрами. И спустились когда в приемную с четвертого этажа, то стал эти деньги раскладывать, так чтобы за себя и за Михася заплатить, оказалось, что у них нет сдачи. Впрочем, нашлась сдача, дают ему знаки денежные, а там – этикетки от спичечных коробков, фантики, вкладыши в жвачку, марочки, и вот дают еще пачку поувесистей, да потолще. И на вопрос говорят, ваш город далеко находится от одного государства, где такие деньги ходят, а наш немного поближе к нему. И аж подпрыгнул и внутренне присел от мысли, что обман, подстава, измена, но Михась тут и говорит: да чо, сбудем, обменяем бабло-то, город большой, где-нибудь найдем. И тут раскрывается пачка, что потолще да поплотнее, а там газеты старые, тонкие, сухие, желтые, и буквы на них мажущиеся, что пальцем можно стереть, навроде «Гудка», а на полях арабские цифры расставлены, там сто, там пятьсот, крючковатым выведенные почерком, такими газетами окна заклеивали. А вечером ему уезжать, поезд в десять отходит, и еще билет надо купить.
И выходят они, от ничего не поделаешь, в город, и ищут в первую очередь газетный киоск, а находят на его месте пункт приема макулатуры, но обнаруживают, что он закрыт. И все улицы усеяны этими газетами ветхими, и метет их ветер, а на окнах сквозь специальные прорези кто-то глядит на них с Михасем, городок-то двухэтажный весь, и дома в нем все тоже с мажущимися ветшающими стенами, осыпает листвой деревья, а на веревках во дворах висят маркие сухие майки, и со вторых, и с первых этажей, кажется, кто-то молча исподлобья глядит на них, а на улице ни души.
Вот доходят они по улице Макулатурной, это читают они на болтающейся табличке, до улицы Мускулатурной, и там магазин в подвальчике, где написано, что продают бронзовых бонз и другое литье. А во рту прогоркло, словно от завтрачного масла, или как будто полизал бумагу, на которую налипают мухи. И спускается с первого этажа хозяин магазинчика, и говорит, что обменять их деньги можно только на еду и питье, а божки не продаются. Да нах нам божки, говорит Михась, скажите нам, где этот магазин, где пожрать. Идите, отвечает хозяин бюстовый, два переулка, Селедочный и Льняной налево, потом будет улица Гречишная, и за ней переулок Медведкин, но уже направо. Там все есть, и столовая, и бутербродная, и сосисочная, и в ней курзал – там табак продают.
Поворачивают в переулок Селедочный, там пахнет касторкой, а на углу стоит человек в помятой шляпе и в брюках с красными лампасами. Правильно ли мы идем, спрашивают его, он отвечает, я не знаю сам, забыл, номера домов стерлись, и с названий улиц буквы осыпались тут, и тополи опали, думаю, когда бы метлу мне найти, я дворник, я подмету.
Да расслабься, говорит Михась, а у самого мысль, нам еще до вокзала бы добежать, а Михась говорит – за три часа до отхода поезда билет всегда купить можно. Поворачивают опять влево, должно быть, это Льняной переулок, и точно, на всех окнах висит какое-то тряпье, заплатанные штаны, и рубашки, а на балконе дородная женщина стоит и развешивает. Гражданка, правильно ли мы идем, спрашивают они, а она наволоку как парус надувает, и прищепляет к веревочке, а потом панталоны к себе примеряет, и тоже на прищепку деревянную, в форме рыбки сделанную, вешает. Да авось правильно, голубчики, идете вы, но я дальше своего двора не выхожу. Ты че, бабанька, не знаешь на какой улице, в каком номере дома живешь? Нет, отвечает, я и на двор-то выходила, считай, в запрошлый год. А запах не чуешь, магнезией здесь в нос прямо шибает, сама настирала? Нет, милок, это я свои наряды старые здесь примеряю, в которых щеголяла еще лет не помню сколько назад.
Плюнули, пошли по переулку, и видят – улица, а на ней фонари кланяются друг другу и сломанный светофор. Только переходить стали дорогу, поднялся такой ветер, что поднял их и на два квартала вбок унес. Только ступили на тротуар, как ветер стих, и Михась говорит, наверное, здесь все переулки параллельные, давай, надписей все равно нет, пойдем, а потом влево свернем, там, наверное, будет площадь. И свернули.
Идут, идут, а там дома сплошные, точно корпуса заводские, и забор долго тянется, и все нет и нет налево поворота. Идут уже час, два идут, три идут, и он на часы периодически посматривает, сколько показывают, считает, а Михась вдруг говорит, вот там виднеется какой-то толи парк, толи сквер. И убыстряют они шаги, и вот уже сквер близко, а перед ним киоск, который, кажется, работает. Запыхавшись, стучатся они в окошко, появляется из темноты глядящая продавщица, и обменивает им этикетки на коробки́ без надписей, а бутылочные на Чебурашки, а от масла бутербродного на бутерброды. И берут они все это радостно и идут в сквер, где сорок одинаковых оказывается лавочек, и садятся, выпивают, закусывают. Михась оборачивает голову и говорит, хоба-на, а вот и вокзал. А его сон сморил, припекать начинает солнышко, и Михась сперва сидит на скамеечке, где тот закемарил, и на голове у того смоченное пивом полотенце, украденное из гостиничного номера.
Михась – мужик крепкий, здоровый, сон у него нейдет, и говорит ему, давай, пока я поделю поровну наши деньги и пойду куплю билет на вокзале, ты подремли пока. И забирает себе все этикетки, а ему отдает то, что потолще, газеточное, и оставляет его лежать на скамье.