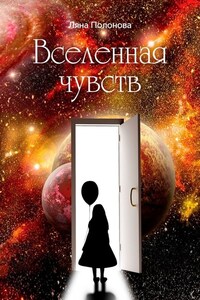Тяжёлые свинцовые тучи заволокли небо над трущобами Парижа. Я шёл по неровно выложенным из булыжника мостовым, вдоль пустеющих улиц, мимо обветшалых кварталов парижских трущоб. Лишь изредка меня обгоняли случайные повозки, заехавшие сюда не иначе как по ошибке. Сами улицы были совершенно безжизненны. Уродливые трещины в стенах разваливающихся домов напоминали морщины умирающей старухи, готовой испустить последний вздох.
Полил сильный дождь, и я поспешил как можно быстрее оказаться в тёплом и сухом месте. Над моей головой нависал фасад дома, готовый обрушиться в любой момент. Разве можно здесь жить? Нет. Только существовать. Над замшелыми каменными стенами на ветру раскачивалась вывеска захудалого кабачка. «Отлично, – подумал я, – здесь можно пропустить пару кружек того пойла, которое парижане гордо именуют bièrebrune».
За деревянными замызганными столами, сидя на перекошенных скамьях, шумели и балаганили охмелевшие компании. Некоторых мужчин уже обхаживали ночные бабочки, бесстыдно подставляли свои шеи и груди под их ласкающие губы. Кто-то уже начал браниться, выясняя, чем один лучшего другого. Трактирщик лишь пустым взглядом обводил своё жалкое владение, механически потирая колотые бокалы. Звучали завывания скрипки, такие печальные и тягучие. А в такт им пела о несчастной любви молодая девчушка, фальшивя на каждой ноте.
Я прошёл за самый дальний столик кабака и заказал здешний напиток.
И думал о днях прошедшей юности. О днях, полных мечтаний и надежд.
Он был родом из провинции дальней. Не знал он там ни горя, ни тревог. Он maman своею был очень любим. До сих пор помнил её ласкающую нежную руку в непослушных вихрах его волос. Он был общителен и местной детворою обожаем. Бывало так: уйдёт он рано с утреней зарёй гусей гонять и лишь к обеду весь перепачканный соизволит появиться. Улыбаясь так открыто, весело, задорно.
– Базиль! Ну сколько можно? – мать спросила строго, уперев в полноватые бока свои руки.
– Простите. Я не хотел, – стыдливо мальчик говорил, низко голову склоняя.
– Умойся и обедать. Тебя скрипка заждалась, – с тяжёлым вздохом женщина проговорила, прекрасно понимая, что покорность сына лишь обман.
– Да, maman! – воскликнул весело мальчишка, умчавшись в комнату к себе.
А мама вслед ему смотрела и очень нежно улыбалась. Не только линиями губ, но и лучезарными глазами цвета серебра.
Но счастья миг недолог был! Погибла мать, отец спился, отдав его на обучение в Париж. Лишь только б больше образ не видать любимой женщины своей, что сохранился в чертах сыновних.
Вот так я и оказался в Париже. Я влюбился в этот город с первого взгляда. В его широкие мостовые. В его готические соборы, с мрачными горгульями под кровлями. В пышность и великолепие его замков, отражающих величие города.
Здесь кипела жизнь не только днём, но и ночью, когда зажигались уличные фонари. Они озаряли город волшебным светом, отражавшимся яркими красками в водах реки Сены. Здесь в каждом закате царила одухотворённость, которая вдохновляла творческих людей.
Но любовь моя была безответна. Именно здесь я познал нестерпимые муки.
И снова глоток дешёвого пойла обжёг мне горло.
Вот пролетела детская пора. Он стал прекрасным юношей, с глазами цвета серебра, светившимися добротой. В закрытой школе обучаясь, он жизни парижской не видал. Вкус сладких круассанов неведом был ему. Не знал он аромата терпкого вина. Ни карнавалов, ни красот ночных.
Окончил школу, и что теперь? Неизвестность, нищета. Пошёл работать, но беда – нигде брать не хотели. А жить на что? Им маловажно. Играл на скрипке, подаяния прося, чтоб было только что поесть. И жил на чердаке холодном, но с видом на небо, что всегда бывает разным. То оно голубое, то серое и дождливое, а порой волшебное – когда в чёрный шёлк облачено с прекрасными созвездиями на нём.
И вот однажды, так играя, увидел он среди толпы белокурую красавицу, что стройным станом пленила его взор и думы. Если бы он был художником, то изобразил бы нежность черт её лица, белый шёлк кожи, алый бархат губ и бездонность синевы в глазах.
Однажды, смелости набравшись, решил о чувствах он своих поведать ей. Сыграл мелодию от сердца своего. А что она? Она лишь посмеялась, сказав: «Прости меня, но бедный скрипач мне ни к чему». А после… а после потешались все над ним, кому не лень. Кричали вслед ему: «Ты посмотри, какой простак, графиню полюбить посмел!»
И этот смех в кошмарах снился ему долго… И каждый раз он думал об одном: «Красив Париж, и люди в нём. Но так гнилы внутри».
И почему я вдруг её вспомнил? Не знаю. Ну да чёрт с ней. Как-то мысли путаются. Неужели перебрал? Наверное, а впрочем… Париж разбил мне все надежды и мечты. А ведь я полюбил его всем существом своим, но для него я навсегда останусь чужим.
Снова скрипач начал свою игру. Я встал из-за стола и подошёл ближе к помосту, на котором он выступал.
– Месье, позволите сыграть? – с надеждой спросил я.
– Ну… Раз желаете, – с усмешкой проговорил скрипач, показывая неровный ряд зубов.
– Спасибо, – поблагодарил я, когда в моих руках очутился вожделенный музыкальный инструмент.
Я подождал немного, прислушался к биению своего хмельного сердца и, опустив смычок, запел. Запел о том, как тяжело быть чужим в краю родном. Запел о красоте города, где царит волшебство. Мелодия струилась, перескакивая с одной ноты на другую. Потом я пел о боли, которую ощущаешь, когда ускользает любовь, пел о том, как разбивается фарфоровое сердце о девичью красоту. И столько грусти было в этих нотах…
– Прости, товарищ, но здесь не траур, – ворчливо проговорил трактирщик, прерывая мою игру на скрипке. – Иди играй на похоронах.
– Извините, я что-то увлёкся, – раскаивающимся голосом произнёс я.
– Всё, чеши отсюда. Скрипку оставь себе, всё равно уже не нужна.
– Спасибо вам большое, – ответил я с благодарностью.
Я покинул кабак, низко опустив голову.
Низко голову склонив, он кабак покидал. И не увидел он чувства на лицах хмельных.
– Пусть однажды счастье она тебе принесёт. Несчастный скрипач, ох, несчастный, – проговорил трактирщик вслед, утерев слезу непрошенную, не осмеливаясь её ему показать.