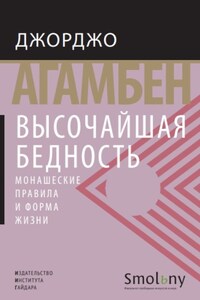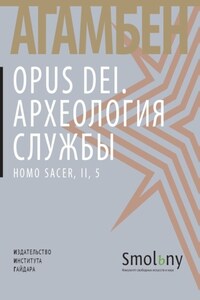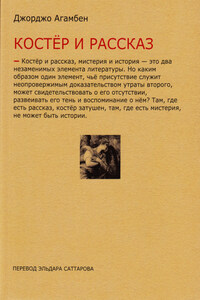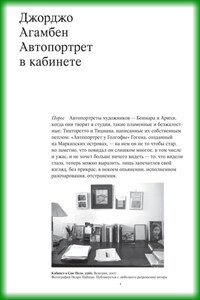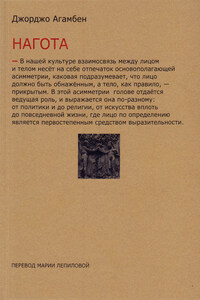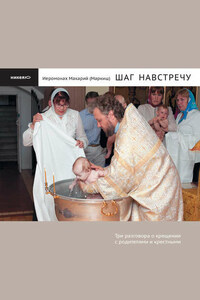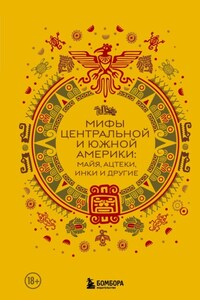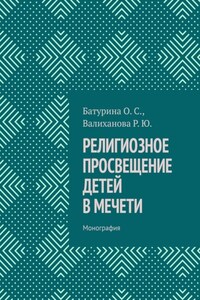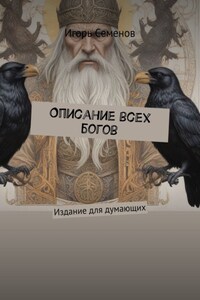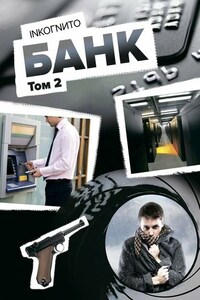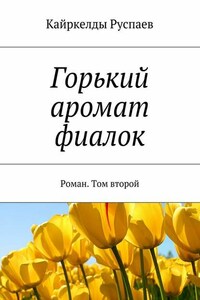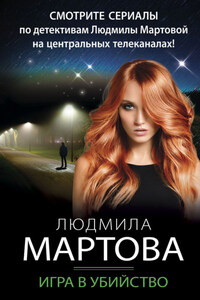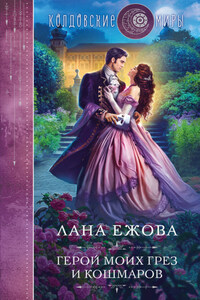Эта книга Джорджо Агамбена содержит большое количество латинских цитат, причем в оригинальном тексте автор работает с ними совершенно по-разному. Иногда цитата дается вместе с полным переводом, близким к подстрочному, иногда это раскавыченный перевод с небольшими модификациями, иногда это парафраз без перевода, иногда цитата без перевода просто помещается в иллюстрируемый ею контекст в расчете на читателя, владеющего латынью.
Учитывая это, а также для того, чтобы не перегружать русский текст дублированием, и помня, что это книга, написанная философом, а не историком или филологом, при переводе также применялись разные подходы в зависимости от конкретного случая: в первую очередь это относится к парафразам и раскавыченным переводам, в таких случаях цитата дополнительно не переводится. Когда автор обрывает свой перевод, дается перевод только переведенной им части цитаты.
Иногда перевод ради большей точности подправлялся по латинскому оригиналу, если это представлялось не искажающим интерпретационные намерения автора; в остальных случаях перевод подлаживается под перевод на итальянский самого Агамбена.
Задача тем или иным образом передать или, по крайней мере, коннотировать «архаичный» стиль теоретиков средневекового монашества специально не ставилась. Следует иметь в виду, что иногда сам Агамбен переводит более «модернизированным» или техническим образом, чтобы лучше подсветить свою собственную интерпретацию того или иного отрывка.
В отдельных случаях, когда некоторые существующие русские переводы (XIX в.) монашеских правил представлялись явно устаревшими, они не учитывались вообще, в других случаях использовались – подчас со значительными изменениями.
Для греческих цитат сохранена авторская упрощенная транскрипция на латиницу – обозначаются только долгие гласные; ударение и придыхание не обозначаются.
Переводчик выражает благодарность В. М. Лурье за оказанную помощь.
Предметом данного исследования является попытка – рассмотренная на образцовом примере монашества – сконструировать форму-жизни, то есть жизнь, настолько тесно связанную со своей формой, что она оказывается от нее неотделимой. Именно в этой перспективе в исследовании будет прежде всего разбираться проблема того отношения между жизнью и правилом, что определяло диспозитив, посредством которого монахи стремились осуществить свой идеал формы общей жизни. Речь идет не только – или не столько – о том, чтобы исследовать запутанное нагромождение скрупулезных предписаний и аскетических техник, монастырских галерей и horologia1, отшельнических искушений и хоровых литургий, братских увещеваний и жестоких кар, при помощи которых монашеская обитель, нацеленная на спасение от греха и мира, учреждает себя как «правильную жизнь», сколько о том, чтобы прежде всего понять диалектику, которая таким образом устанавливается между терминами «правило» и «жизнь». Эта диалектика и в самом деле является настолько переплетенной и сложной, что на взгляд современных исследователей подчас как будто растворяется в совершенном тождестве: vita vel regula2, согласно вступлению «Правила святых отцов» или, как говорится в «Утвержденном правиле» Франциска, haec est regula et vita fratrum minorum3. Однако мы предпочтем оставить здесь за vel и et всю их семантическую двусмысленность, чтобы взглянуть на обитель, скорее, как на поле сил, пересекаемое двумя противонаправленными и в то же самое время переплетенными силовыми линиями, во взаимном напряжении которых нечто неслыханное и новое – то есть форма-жизни – упорно стремилось к собственному осуществлению и столь же упорно мимо него промахивалось. Великое нововведение монашества заключалось не в смешении жизни и нормы и не в новой вариации отношения между фактом и правом, но, скорее, в определении некоего уровня консистенции – оставшегося неосмысленным и, возможно, все еще немыслимого сегодня, – которому словосочетания vita vel regula, regula et vita, forma vivendi, forma vitae4 с таким трудом пытаются дать имя и в котором как «правило», так и «жизнь» теряют свое привычное значение, указывая в направлении чего-то третьего, – именно того, что и нужно будет извлечь на поверхность.
Вместе с тем в ходе исследования обнаружилось, что препятствием для обнаружения и понимания этого третьего было не столько упорство в применении диспозитивов, которые современным людям могут показаться юридическими – такие как обет или professio5, – сколько феномен, столь же центральный для истории Церкви, сколь непрозрачный для современности, – то есть литургия. Великим искушением монашества было не то, что живопись Кватроченто запечатлела в образах полуголых женщин и безобразных монстров, изнуряющих святого Антония в его ските, но воля сконструировать жизнь как всеохватную и непрерывную литургию. Именно поэтому исследование, изначально ставившее себе целью при помощи анализа монашества дать определение форме-жизни, вынужденно столкнулось с задачей – непредвиденной и, по крайней мере на первый взгляд, уводящей в сторону – археологии богослужения (результаты которой публикуются параллельно этому исследованию в отдельном томе, озаглавленном «Opus Dei. Археология службы»).
Только предварительно осмыслив парадигму – одновременно онтологическую и практическую, сотканную сразу из бытия и действия, из божественного и человеческого, – которую церковь непрерывно формулировала и артикулировала в ходе своей истории от ранних нечетких предписаний «Апостольских постановлений»6 вплоть до тончайшей архитектуры Rationale divinorum officiorum7 Гийома Дюрана (XIII в.) и рассчитанной безыскусности энциклики Mediator Dei (1947), и возможно было понять опыт, исключительно близкий и в то же самое время далекий, о котором шла речь в форме-жизни.
Хотя понимание монашеской формы жизни могло быть достигнуто лишь благодаря тщательному сопоставлению с литургической парадигмой, тем не менее, experimentum crucis исследования мог быть сделан только в ходе анализа духовных движений XII и XIII вв., чьей кульминацией стало францисканство. Поскольку свой ключевой опыт они размещали не на уровне вероучения или закона, но на уровне жизни, в этой перспективе они представляют собой во всех смыслах решающий момент в истории монашества, когда его сила и его слабость, его успехи и его провалы достигают своего предельного напряжения.
Поэтому книга завершается интерпретацией мысли Франциска и францисканских теоретиков бедности и пользования, которую, с одной стороны, рано возникшая легенда и нескончаемая агиографическая литература сокрыли за слишком человеческой маской