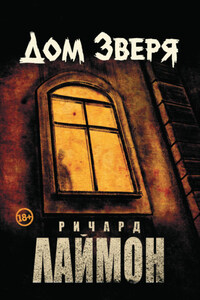Глава первая
Ядовитые побеги
По замусоренным каменным плитам скользит любопытный солнечный луч, подбираясь к надгробию. Мраморный рыцарь в полном доспехе безучастен, зато сидящая у него на груди ворона недовольно топорщит перья, нехотя перепархивает в тень. Я подхожу ближе, под ногами шуршат занесённые в склеп прошлогодние листья. Мраморное забрало лежащего рыцаря поднято, хотя когда я смотрела на него с порога, оно было опущенным. На мёртвом сером лице следы тления. Или это мрамор, тронутый временем… Я склоняюсь к нему. Ниже… ещё ниже. Сейчас он приподнимет голову и моих губ коснутся его ледяные губы…
На этом месте я всегда просыпаюсь, и засыпая снова, боюсь, что сон продолжится, что в нём произойдёт то, от чего сбивается дыхание и волосы липнут к вспотевшим вискам. Этот сон преследует меня с тех пор, как в склепе было поставлено надгробие, под которым упокоился сэр Фрэнсис, граф Стэнфорд, всесильный хозяин этих мест. Человек, жестокость которого вошла в поговорку. Человек, которому я каждый день желаю гореть в аду, хоть не один год уже прошёл со дня его смерти…
Я заставила себя рывком подняться с постели. Теперь плеснуть в лицо холодной воды, распахнуть окно, вдохнуть утренний воздух и снова стать той Мэри, которую знают все: неунывающей, улыбчивой, немного легкомысленной – ровно настолько, чтобы окружающим не было скучно. И чтобы люди не вспоминали лишний раз, что я – единственная, оставшаяся в живых из семьи, когда-то верой и правдой служившей графу. Прошлые беды – всё равно, что корни, способные дать в настоящем ядовитые побеги.
Аккуратное платье, изящная причёска – всё-таки, я не простая служанка! – улыбка в равнодушном зеркале, и – бегом по лестницам и коридорам огромного замка. Госпожа, к утреннему туалету которой мне надо успеть, ни в чём перед моей семьёй не виновата. Она даже не дочь проклятому графу, а – падчерица, о существовании которой он при жизни, кажется, даже и не вспоминал. Родная дочь у него тоже была, но о ней думать не хочется. Хотя, возможно, придётся её сегодня увидеть… При этой мысли я осенила себя крестным знамением.
Хоть к туалету леди Камиллы я всё же слегка опоздала, она встретила меня улыбкой. Вот только улыбка её, против обыкновения, не была радостной. Даже постоянно щебечущая стайка горничных сейчас была непривычно притихшей. Видимо, сегодня день такой – все прячут тяжесть под беспечной или любезной маской. День бракосочетания дочери графа Стэнфорда, которую три года никто не видел, и барона Дормонда, его бывшего вассала.
Когда за стенами замка раздался звук рога, кажется, сердце тревожно сжалось не только у меня. Согласно этикету, я должна была сопровождать леди Камиллу, но в парадном зале её сопровождающие смешались со свитой её матери, вдовствующей графини, и я с облегчением позволила оттеснить себя к лестнице. Видно оттуда ничего не было, зато разговоры столпившихся в проходе слуг вполне заменяли мне возможность лицезреть леди Элис и её сопровождение.
– Беда в замок въезжает…
– Побойся бога!
– Уж лучше чума, чем она…
– Да придержи ты язык! Сама на себя беду не накликай.
– Напраслину вы возводите на леди Элис. Она же совсем девочкой тогда была…
– Не знаешь – не говори! Пятнадцать ей уже было. А ведьмы ворожить с пяти лет начинают.
– Придержи ты язык! Услышат…
– Ладно вам болтать попусту. Говорят, леди Элис набожной стала, все эти годы душу отца отмаливала.
– Ты в это веришь?
– Верно, верно! Сама слышала, что леди Элис монастырь покидать не хотела.
– И я слышала, будто она помолвку собирается расторгнуть и в монахини постричься…
– Вон, вон она!
– О, господи… такая – и в монахини?
– Какой же она стала красавицей! И не узнать…
– Не узнать? Да она на сэра Фрэнсиса, упокой господь его душу, как две капли воды похожа!
– Впрямь, похожа. Стэнфорды все красивы, гореть им…
– Замолчи, услышат!
Я потихоньку выбралась из толпы служанок. Лучше не быть мне там, где болтают так неосторожно. Хоть сама ни слова не сказала, но и слушать некоторые вещи опасно. Язык – враг, но слушающим тоже может достаться… Да и видеть леди Элис я не жаждала, в какую бы набожную красавицу она ни превратилась. Я сама была ребёнком тогда, но детская память – крепкая.
Мне – пять лет. Кто заметит пятилетнюю девочку, сжавшуюся в комок возле покрытой плющом стены? Свисающие до земли лозы шевелятся от ветра, то заслоняя, то вновь открывая громаду донжона на фоне утреннего неба и чёрный силуэт повешенного, почти теряющийся в лучах яростного утреннего солнца. Ему было четырнадцать, моему старшему брату. И ему никогда не исполнится пятнадцати…
Подошедший отец молча берёт меня на руки и уносит прочь. Я обхватываю руками его шею и смотрю назад, поверх его плеча. Безжизненный силуэт на фоне утреннего неба… мой старший брат, которому никогда не исполнится пятнадцати…
Отец был уверен, что я ничего не поняла и не запомнила. Он никогда не говорил со мной о судьбе своего старшего сына. Впрочем, с другими он тоже о ней не говорил. Кажется, никто толком даже не знал, за что был повешен мой брат – сэр Фрэнсис не отчитывался в своих поступках ни перед кем. Позже я узнала лишь, что отец получил от него большую компенсацию золотом и позволение остаться на службе. Повернулся бы у кого-нибудь язык осудить отца за это? Ведь у него был второй сын, и я.
Черный силуэт, тающий в яростных утренних лучах… Мой брат, которому никогда не исполнится пятнадцати. Детская память – крепкая…
И вот четырнадцать уже мне. Я стою возле той же стены, и над моей головой шевелится от ветра тот же плющ. Только сейчас его плети с облетевшими по осени листьями не шелестят, а сухо царапают камень. Чуть поодаль стоят другие слуги. Неподвижно, молча… По булыжнику двора стучат обитые жестью колёса телеги, с бортов свешиваются клочья соломы. Поверх соломы наброшен плащ. На плаще – тело графа. Люди вокруг осеняют себя крестными знамениями. Стучат по булыжнику колёса. Безжизненное тело вздрагивает от толчков. Мёртвая рука в изящной перчатке соскальзывает с груди, открыв тёмное пятно на серой ткани камзола. Слуги вполголоса переговариваются, до меня долетает слово «дуэль».
Телега останавливается. Толпа молча расступается, давая дорогу леди Элис. Она идёт медленно, с прямой спиной и высоко поднятой головой. Ей четырнадцать, как и мне. Подойдя к телу отца, она не проронила ни слезинки.
Она не плакала и позже, когда стояла в церкви возле гроба. И когда тело графа опускали в склеп, она тоже была спокойна. Только её лицо выглядело таким же мёртвым, как у отца. И с тех пор никто не видел, как она улыбается.
Мне пятнадцать. Прошёл ровно год после похорон сэра Фрэнсиса. И ровно год после того, как мой отец уговорил священника впервые открыто отслужить мессу по своему казнённому сыну.