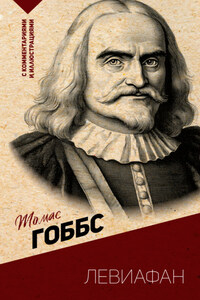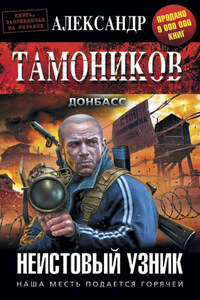22, или Что я понял до 22 лет
1.
Что делать, когда
ничего не пишешь?
Наверное, писать,
иначе – погибнешь!
2.
Я пишу, следовательно, я существую.
3.
Современное искусство – это не искусство вовсе, ибо то, что не несёт в себе вектора, направленного в вечность, никак не может называться искусством.
4.
Цепь событий моей жизни – это нанизывание бусинок абсурда на рвущуюся нить искусства.
5.
Мизантроп любит людей, но не массы, которые ими притворяются.
6.
Неужели всё наше существование – это следование заветам ослепительной глупости, это слепой, ведущий слепого?!
7.
Вся наша жизнь, закованная в неподъёмные путы слов, – это сказка Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля».
8.
Разговор – это отчаянная попытка покинуть кокон одиночества.
9.
Чего нет в памяти, того никогда и не было.
10.
И кто вообще такой этот «Я»? Миллиарды лет я был никем. Сейчас я кто?
11.
Для меня весь мир – одна большая церковь удивительной, бьющей ключом жизни.
12.
Высшее искусство – создать человека.
13.
Вот Россия, меня взрастившая, вот Россия, отходящая к вечному сну, вот Россия, которую люблю, вот Россия, в которой умру…
14.
Я будил в себе рано
больную,
большую,
броскую
зарубцевавшейся раны славы
полоску
поэта
Бродского.
15.
«Фашизм вкуса» – так зову критицизм вкратце я.
Для осуждающих нации глупо стараться.
16.
Кто-либо когда-нибудь задумывался о том, какую ноту испускает крышка гроба, плюхающаяся на измученное жизнью тело?
17.
Демон – это наша душа, болтающаяся на виселице выбора.
18.
Демон живёт не в обстоятельствах и зависимостях, демон живёт в каждом из нас.
19.
Вечность не умирает…
20.
Человек обязательно должен взглянуть смерти в глаза, чтобы начать жить с пользой.
21.
Смерть уничтожает вас как единицу, как отдельную личность, но она никогда не погубит вас как идею.
22.
Идея писателя будет жить вечно, следовательно, я бессмертен.
Жоан Миро
Autumn Wright
Тоска пожаловала в гости ближе к ночи. К чему бы это? Не знаю. Она привела с собой прыгающие вопросительные знаки: а что меняет моё творчество? какое значение оно имеет для других? а для меня?
Видимо, слишком много себя вложено в написанное. По сути, так и есть. Моя жизнь размеренно однообразна. Не сказать, что мне это не нравится, напротив. Однако настораживает и одновременно радует некая преданность воздушному замку искусства. Надеюсь, то, что я делаю, имеет право носить это гордое имя. Впрочем, сомнения всегда стучатся в дверь ночью. Это бывает. Поэтому о них желательно рассказать, дабы они вышли вон.
Этому письму суждено подвести некий промежуточный итог, быть и сухим, и метафоричным, и возвышенным, и жалующимся.
Искусство – это самый ненадёжный и непредсказуемый актив на бирже жизни, это самый рискованный вклад, потому что никогда не знаешь, под какой процент заложены все твои сбережения стараний. Банк признания может и обанкротиться, не дав взамен ровным счётом ничего, а может и наградить огромным процентом, сделав миллионером.
Но здесь дело даже не в прибыли, а в затраченных ресурсах, главный из которых – время. Втискиваешься в пустоту бегущих стрелок, они несут тебя вперёд, словно экспресс, летящий без остановок. Вот только билет в один конец и без места назначения, вот только время уже не вернуть, если судьбоносный вагон оказался не тот. Может, в моём купе должны ехать не романтичные писатели и философы, а люди совершенно других профессий?
А стоит ли вообще ожидать что-либо от искусства? Разве оно, подобно капиталу, приносит прибыль? Моё грубое экономическое сравнение навеяно всё большей рационализацией жизни. Якобы непременно должна быть некая последовательность действий и конечный результат, их оправдывающий. Для баланса пусть живёт и процветает иррациональность с её безвозмездностью, убыточностью и бескорыстием.
Поезд творчества – вперёд! Деревья, станции, бесконечно сменяющиеся ландшафты, люди… Всё несётся в противоположную сторону, всё удаляется, и только твоё праздное одиночество, будто сбитое с ног в один прекрасный и ужасный момент, недостающим кусочком мозаики вдавливается в змеиную цепь вагонов и устремляется в опасное и тягостное неизведанное. Роковой миг, и ты более не принадлежишь самому себе, невольно становясь заложником ремесла. Это уже не просто люди, это уже не просто взгляд, это уже не просто слово – всё это расходный материал новых и новых миниатюр. Ты не можешь пропустить броскую реплику мимо, как не можешь уклониться от хлопьев снега, застилающих глаза. Ты не можешь не смотреть и не наблюдать, не имеешь права забывать и быть равнодушным, как машинист, священный долг которого – исполнять свои обязанности, несмотря на тяжесть падающих век. В твоей жизни становится всё больше красных, запрещающих сигналов светофора, но только это обилие «ты не можешь», только это рабское, безальтернативное служение и выливается в парадоксальную, доселе непознанную свободу.
Да, моё лицо овевается буйными ветрами. Да, мои глаза не смыкаются. Да, я уже не совсем человек, ибо стал частью отлаженного механизма. Но, чёрт возьми, насколько уверенное, победоносное, ликующее, свободолюбивое «да» вырывается из переполненной груди, разлетается по округе, будто гудок поезда, слышимый в туманно-дождливую погоду за десятки километров. Любой пишущий, каким бы одухотворённым он ни был, ожидает ответа на этот клич свободы, на это святое «да».
Моё творчество напоминает театр одного актёра. Его ложи с любовью сконструированы неумелыми руками. Каждое место пронумеровано и символизирует одну из миниатюр. Вместимость небольшая: всего семьдесят семь избранных (?) зрителей. С выпуском этого письма в свет появится семьдесят восьмое.
В этом театре нет аплодисментов, здесь постоянная, давящая тишина. В этом театре нет занавеса, но он непременно появится. Чёрный. Чёрный кусок траурной ткани, прикрывающий позор почившего актёришки.