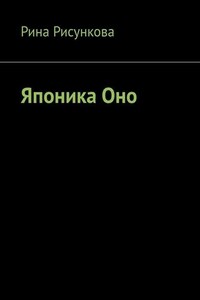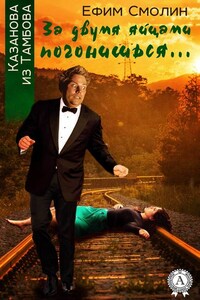Мне должно было исполниться шесть через два дня. Я отсчитывал дни, зачем спрашивается, если бабка решила удивить накануне.
Я никогда не читал детских книг и не имею ни малейшего представления кто такой Гекльберри Финн и Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер Длинныйчулок.
Лет до 15 я дружил с Титой, дочкой маминой подруги. Потом, как нередко случается, мы перестали общаться. На самом деле, она никогда меня и не занимала, но нашим родителям казалось, что мы обязаны обзавестись крепкой дружбой. Тита как-то сказала, что я чересчур серьезный, поэтому у меня нет друзей – со мной и правда, было не интересно. Ровесникам хотелось познавать жизнь, а я хотел не знать ее. Для меня было бы лучше никогда не видеть той грязной живописи, ставшей моей пружиной, моим тошнотворным потрясением.
Моя бабка была выдающееся женщиной, особенно из-за своего скудоумия, взбалмошности и выдержанной потерей памяти. Это был своего рода выдох для нас, когда старуху прихватил паралич и ее упекли доживать в сестринский дом. С ее исчезновением, я понял, что жить – чудесно. Я быстренько занял ее комнату. Закрыл дверь – и ты один; а уединение, оказалось штукой соблазнительной.
Родители ничего мне не объясняли, а сам я не лез с вопросами. Мне было противно думать о старухе, доходило до смешного – я боялся зарекался о ней. Помню, что задерживал дыхание, когда слышал звонок. Крестиком пальцы – только бы не ее возвращение. Что сказать, ребенок так же мал, как велик его эгоизм. Через несколько дней страх исчез. Я поверил, что она никогда не вернется.
Прошло недели две, когда я сам изъявил желание ее проведать. Здесь родители оплошали по-крупному: им мой порыв казался умилительным. Их романтические чувства, пылали, ведь их мальчик полон любви и сострадания. Донельзя ничтожное заблуждение. Меня всего лишь направляло любопытство – жестокий интерес. Но они видели ребенка, не обделенного жалостью.
Сначала я услышал запах. Чертовски смрадную, кислотно – охристую вонь, я учуял еще на крыльце больницы. Даже отец, куривший возле меня свои дешевые сигареты, казался весенней клумбой.
Когда мы зашли в хоспис, я еле сдержался, чтобы не блевануть на грязно-малахитовую плитку под ногами. Я взял отца за руку. Его пальцы пахли паршивой, третьесортной стружкой – одно название табак. Но я прижался носом к ладони. Мы вышли во внутренний двор. Обшарпанная полуразрушенная скамейка поддерживала пару тощих женщин. От них мало чего осталось, но шевелиться и кое как разговаривать еще могли. Главное о чем? Женщины сидели скрестив ноги, почти уткнувшись в друг друга, как я понял, чтобы хотя бы отдаленно слышать друг друга. На одной – противно выцветший, замызганный халат, надетый на голое тело. Некий привет из 50-х, розовый в кошмарный желтый подсолнух. На второй – линялая сиреневая кофта в катышках, растянутые коленки. Волосы у обеих спутаны. Лицо, я запомнил только у той, что в розовом халате: кожа, как бы скатилась вниз и свисала на подбородке; глаза пыльные, безобидные и настолько измученные, что ни о каком даже микроскопическом отголоске жизни в них, и говорить не приходилось; они скорее мычали – от боли приходилось вытягивать из глотки стоны; издавать хоть какой-то звук, чтобы только не оставаться в тишине.
Отец потянул меня за рукав. Мы зашли в другое здание.
Длинный тлетворный коридор. Разящий смрад, к которому, казалось, уже привык, а нет, тошнотворная вонь усилилась, стала тяжелее. Казалось, что эти испарения обживаются в моих легких и не намеренны из них вылезать. Хотелось заорать, но не мог – я почувствовал у отца это же желание. Я повторял про себя: «Нет, я не могу заплакать. Я не смею, держись.» Сейчас, конечно, спустя столько лет, думаю зачем? Мне следовало всплеснуть руками, забиться в истерике, не допустить той кульминации у кровати больной. Но я шел. Старался идти в ногу с отцом, и только лишь сжал его ладонь сильнее. Меня никто не предупредил, чем чревато сдерживать страх и слезы, но в будущем мигрень объяснит.
Мы дошли до сивушной палаты. Бабушка лежала прямо перед нами, справа и слева стояли еще по две лежанки. Меня вырвало. Санитарка не стала набрасываться на меня. Ни малейшего упрека и недовольства. Она сунула мне в руки пару салфеток, негодующе окинула моего отца и принялась протирать пол, от моего «галантного» преподношения. Сложно описать то, что лежит под видом моей бабушки. Скажу одно, я трясся два дня. Серьезно, меня знобило и я молчал несколько суток. Без шуток. Сейчас я знаю, что именно в тот момент мне была необходима помощь. И может быть, разговор, объяснение, смогли бы дать мне возможность вернуться к нормальной жизни без страшных воспоминаний. Но, увы, никто такого права мне не дал.
Я рос немного отстраненным и очень чувствительным парнем. С ужасом ложился спать и ненавидел ночь. Часто, чтобы заснуть, я тайно крал пару глотков коньяка, чтобы хоть как-то облегчить болезненные покалывания в сердце. Благо, алкоголь никогда не исчезал из дома. Отец пил нормально, от трусости и слабости, которые, не в последнюю очередь, воспитала в нем бабуля. Она считала его собственностью, как котенка или диван. Для нее не было разницы. И слишком уж холила отца. Я его, конечно, люблю, но мужчиной не считаю. Он, кстати сказать, в мои двенадцать, ушел из семьи. В другую, наверно более уютную. Я так думал на тот момент, потому что в нашей, уюта не наблюдалось. Каждый был сам по себе и, конечно, все мои одноклассники завидовали такой свободе. Я делал что хотел, правда, особо и желаний-то у меня каких-либо и не было. Как ни странно, вседозволенность не развязывала мне руки, а наоборот, портила аппетит.
За мной наблюдались некие странности, о которых мне напоминали, все кому не лень. Вплоть до самих родителей.