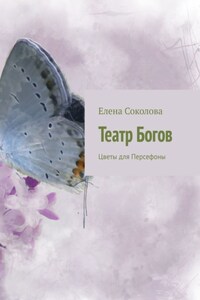Вернувшись из похода за золотым руном, Орфей женился на своей любимой Эвридике и они поселились в тихом лесном уголке. Их уютный дом утопал в пышной зелени сада, на востоке сиял белизной горный хребет, а неподалеку протекал ручей, который так широко разливался, спускаясь с предгорий, что иногда походил на маленькую, быструю речку. За водой лучше было ходить вверх по горе, там, у корней огромной, старой ели, бил лесной ключ, но купаться и ловить рыбу было удобнее на излучине, до которой было не больше часа ходу. И еще, они оба любили приходить к ручью после заката, когда буки-великаны устало опускали свои ветви и замирали стражами вдоль его берегов. В подступающих сумерках пел Орфей, и нежный голос Аполлоновой лиры ложился прихотливым узором на неумолчный шелест текучих вод.
Музыка и песни Орфея были чудом, а чудеса требуют восхищенных глаз. Он был – голос, а Эвридика – слушатель, идеальный, такой же, как голос. Голос пел, зачаровывая, а слушатель проникался чарами, чувствуя и сочувствуя, и его восторг, словно волнами, омывал душу певца, возвращая ему мысли, навеянные им же самим. Восхищение и любовь Эвридики меняли их ролями, слушатель довершал творение певца, а певец – заново открывал его для себя и мира.
Темными вечерами, когда Орфей пел о полночных травах и снах, тяжелым покрывалом опускающихся на притихшую землю, о туманах в речной долине, или серебристых искрах звезд, отражающихся в глубоких зеркалах озер, или о прозрачной волне, медленно, нехотя, сползающей с песчаной отмели в море и вновь жадным прыжком взбегающей вверх – Эвридика садилась напротив него, обнимала колени руками, и замирала. В такие минуты, сжавшись в комочек, она была похожа на чье-то маленькое, чуткое сердечко – любящее и беззащитное. Что стало бы с Орфеем, не будь Эвридики? Они были созданы друг для друга. Но сочувствие всеобъемлюще по природе своей, и, хотя друзья и почитатели певца, так же, как и он сам, предпочитали солнце и звонкую радость дня, светлая душа нежной нимфы равно любила День и Тьму, и именно она первая назвала Смерть – Темной Принцессой.
– Ты любишь петь о солнечном свете, мой Орфей. О золоте и знаменах, о любви и радости, о великой дружбе и подвигах. Ты поешь о величии Ночи, о ее голосах и лунном свете, серебром струящемся в водах ручьев и рек. Но в мире существуют еще тьма и тишина. Почему ты не поешь о них?
Орфей отложил лиру в сторону и притянул к себе жену. Она прижалась покрепче, обвив его руками.
– Милая моя Эвридика! Темнота и тишина – удел тех, кто ушел из мира. Ты хочешь, чтобы я пел о Тьме? Об утрате и печали? Разве это не то же, что петь о Смерти?
– Почему ты не поешь о Смерти, Орфей?
– Зачем? Она жестока, холодна и бессмысленна. Она приходит внезапно, и вырывает человека из любящих рук, порой ей предшествуют боль и отчаяние, она равнодушна к юности и красоте. Смерть уводит с собой не только стариков и воинов, когда настает их час – дети, только вчера явившиеся на свет и их юные матери, еще ни разу не слышавшие голоса своего ребенка – к ним она столь же неумолима. Смерть – зло, почему я должен петь о ней? Разве не прекраснее во сто крат золотой луч солнца на горячей зелени листвы, или запах ржаного хлеба, или белизна женской груди, или ум и отвага великих мужей?
– Ты прав, муж мой. И все же – ты ошибаешься.
Нежная Эвридика, прекрасная нимфа, что знала ты о тьме и тишине? Твоя жизнь в лучах любви Орфея, сына прекрасной Каллиопы и речного бога Эагра, была так светла и безмятежна, почему ты отвергла ее? Что заставило тебя просить Смерть о встрече?
– Что ты знаешь о Смерти, Эвридика? Ты – любимая жена моя, ты – жизнь и душа, ты – ясное утро, улыбка, смех и песня – что влечет тебя к тому, что есть тлен и зло?
– Не знаю, любимый… Может быть – справедливость. Или – жалость.
– Справедливость к Смерти? Не понимаю тебя…
– Она пленница, Орфей, неужели ты не видишь этого? Ты, которому дан талант зачаровывать музыкой своей и людей, и зверей, и даже деревья и травы? Волны морские, и те покоряются твоей песне! Ты так чуток – и так глух к истине, которая очевидна?
– И в чем же эта истина, дитя?
– У Смерти нет выбора, Орфей. У нее нет своей воли. Срок жизни всего сущего – в руках неумолимых Парок, и Смерть – только вестник. Она приходит, когда должно, к тем, к кому должно, и даже то, как она выглядит в эти минуты – и это определяется не ею самой. И ее встречает страх. Ненависть. Отчаяние. И лишь иногда – облегчение. И очень-очень редко она приходит к тем, для кого встреча с ней – радость. И тогда, думаю, радуется и она. А самые черные дни для нее – когда она приходит к детям, только родившимся на свет. Их неведение ложится на ее плечи как свинцовый груз. Столько мыслей, чувств, сожалений видит Смерть, столько проклятий и жалоб слышит в свой адрес – а ведь она просто делает свою работу.
– Смерть несвободна, ты это хочешь сказать, любовь моя? И все ее поступки – предопределены? У нее нет своих желаний, мыслей или чувств, а если и есть – они не имеют значения и не принимаются во внимание?
– Да, любимый. Она – узница долга. И мне так жаль ее!
Далеко, очень далеко от речного берега с его туманами и шепотом волн, на другом конце мира, во тьме и тишине подземных чертогов, среди полированных, круглых колонн, отражающих блики факельного света, и тяжелых, шитых золотом занавесей на окнах, среди брошенных под ноги знамен и ковров, что смягчают холод черно-белых мраморных залов – хрупкая девушка, закутанная в темные одежды, вслушивается в этот диалог.
На бледном лице – огромные, темные глаза, непроницаемые, строгие, холодные. Горький излом длинных бровей, извилистый неулыбчивый рот, тонкие руки с длинными, неожиданно сильными пальцами. Высокая, чуть сутулая, в темном платье, тяжелом, прямом, с едва поблескивающим шитьем по подолу и рукавам, повторяющим орнамент на занавесях и знаменах.