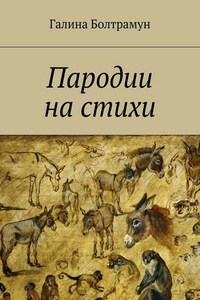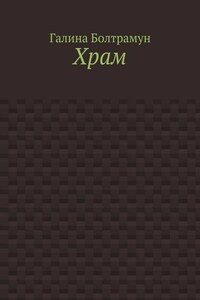В начале было слово. Какое слово? В начале чего? Какие виды ничтожествования и небытия довольствовались собой до начала всех начал? Можно лишь ради забавы рассуждать о безнадзорном хаосе, возникновении космоса и миросозидающих словах – все наши допущения на этот счет не выдерживают даже нашей критики. Мы располагаем лексиконом иного качества, который в свернутом виде дается вместе с рождением, как группа крови, слух, интуиция. Важнейшая функция языка, как утверждают учебники и энциклопедии, – быть средством коммуникации. Очевидно, что подвизаться в общественных учреждениях и быть свободным от общения нельзя. Но является ли это предназначение языка действительно главным? Ответ зависит от взятой точки отсчета, а точки эти могут располагаться в самых неожиданных местах. Для немалой доли тех, кто ежедневно вынужден высказываться в разных тонах и по разным поводам, огромные пласты словесности вне обихода и стандартного образования так и останутся terra incognita. Что теряет индивид, не обладающий способностью заглянуть в иную явь, или, наоборот, что он сохраняет в себе, не поддаваясь сомнительным призывам темной вербальности? Никакие бесспорные выводы не напрашиваются. А споры будут разгораться и гореть синим пламенем до иссякания дара речи на громогласной планете.
Прагматизм, галлюцинации, рациональность и причуды словесности, ее многомерные перспективы и тупики сберегает письменность, в этом многоэтажном и разветвленном хранилище найдется доза бальзама на каждое сердце. Сердца в подавляющем большинстве бьются в унисон с развитием цивилизации, которая периодически затевает ревизию кумиров и приоритетов, окутывает себя сентиментальностью, обрызгивает водами священных рек и вдыхает ароматы летучих мод и поветрий.
Достаточной популярностью пользуются созвучные поступи прогресса повествования, оптимистичные, с прямым и косвенным восхвалением героических стандартов, платонической и плотской любви, с оглашением права битого обстоятельствами персонажа на счастье; сюжеты кочуют из поколения в поколение, обрастая спецификой эпохи, страны, вбирая особенности климатической зоны и политической ситуации. Однако стабильно неувядающую симпатию снискали чисто развлекательные, без сократической подкладки и мусической накидки, жанры, как то: детективы, любовно-приключенческие романы, боевики, сонники, руководства по отворотам-приворотам, анекдотическая по своей убогости мистика и т. п. Такие массовые проекты отменно играют свою роль в деле воспитания расторопного общества потребления. Пусть себе играют; видимо, без этой шарманки оркестр словесности был бы не полон.
На отдельной ступени располагается высокохудожественная изящная литература, вскормленная музами и сеющая на неблагодарной почве «разумное, доброе, вечное», и доблестное, и романтическое. Благородство, яркие вспышки правдолюбия, жертвенность во имя идеала, стоическое мужество – все это вызывает уважение, а иногда и восхищение. Жаром своей творческой температуры писатель воспламеняет героев-светочей, чающих разбавить темень неприглядного быта и подчас безвременно и эффектно гибнущих на перекрестках мечты и суеты сует. Эта словесность любит восходы и закаты; приникшие к ландшафтам руины не пронизаны жилами скепсиса, не имеют запаха всечеловеческой катастрофы, они напитаны серебристой грустью и медленно выветриваются на фундаментах, гипотетически заложенных в золотом веке. Над садами с античными скульптурами и барочными цветниками смутно реют тени невыразимого, но не будоражат опасные залежи подсознания, а вызывают томление о чем-то возвышенном, возможном, но не свершившемся. Некоторых титанических оригиналов удручает неподатливость гравитации, но они не слишком рьяно стучатся в глухие ворота потусторонности, догадываясь, что, вопреки каноническому утверждению, они не откроются. Экстатическая приподнятость не переступает порога, где она могла бы соприкоснуться с безвкусицей, легкая печаль не достигает трагизма, душевный коллапс предотвращается достаточным запасом прочности нервной системы. Такие произведения хорошо читать в юности, когда еще не потеряна окончательно вера в то, что Бог создал человека по образу своему и подобию, а в груди кипит столько энергии, что кажется: ее хватит и на рыцарские подвиги, и на научные открытия, и на освоение туманностей Андромеды, Кастанеды и Парменида.
Особый род письменности – мифология, претендующая на священность своих сур, сутр, панацей и декламаций. Ортодоксальные тексты с годами обрастают внушительным количеством разрозненных комментариев, но всегда являются нерушимой надстройкой гражданского базиса, иногда они видоизменяются или заменяются новыми, но как таковые никогда не исчезнут. Без них нельзя. Почему? Какой силой владеют сказочные по содержанию, не очень складные, местами вопиюще несуразные саги, которые ниже всякого анализа? Обратимся к одному из самых известных мифов, преданию о сотворении Адама и Евы. Зачем именно в райском саду нужно было культивировать одиозное дерево, которое дразнило и возбуждало первых людей и превращало их жизнь в ад? И что это за такой благословенный уголок, где запросто разгуливает злой дух в виде змея и безнаказанно прельщает невинные создания? Почему ему позволено безобразничать во владениях Вседержителя и чем вообще последний мог бы обосновать интересное присутствие не только в его парках, но и во всем мироздании нечистой силы? Кто наделил злосчастную пару волей к познанию добра и зла и ослушанию? Сходные недоумения провоцирует чуть ли не каждый абзац любого мифа. Остается лишь восклицать: «Верую, ибо абсурдно». Непонятно, почему это приписываемое Тертуллиану изречение часто упоминается; оно кажется плоским, не остроумным и перекликается с известным на бывшем советском пространстве афоризмом Ленина «Учение Маркса всесильно, потому что верно», сюда же относится, например, «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Подобного рода «мудрости» производятся в несметном количестве; и что касается мифа, то именно такие «железные доводы» воздвигаются для его защиты, миф и не рассчитывает на хоть сколько-нибудь внятную трактовку, он требует слепой веры и повиновения.
С баснословными поверьями испокон века соседствуют высокие образцы словесности разных видов, пронизанные тоской по истине; но не скрывающие своих противоречий, готовые к самоликвидации продукты сложной душевной деятельности не дерзают назвать себя божественными. А миф в силу своей всесторонней недалекости (вкупе с наглостью?) во всеуслышание заявляет, что он-то и есть подлинное слово Божье, и объявляет монополию на определение богоугодности, праведности и благочестия. Только ли благодаря апломбу и интригующим сюжетам господствует мифология над коллективными представлениями? Трудно судить. Дело обстоит не только так, что миф является порождением незрелого ума, верно и обратное: это миф охватывает сознание и контролирует его деятельность, так что замкнутый микрокосм не подвержен влиянию макромиров и вполне довольствуется войной и примирением домотканых противоположностей. Общественное сознание предрасположено к принятию мифа, тут наблюдается обоюдное тяготение и взаимопроникновение, это любовь на все времена, а о скончании времен не помышляют в царстве идола и кесаря. Типовое просвещение дает исчерпывающие псевдоответы на псевдовопросы, и неунывающие поколения гордо пользуются успехами прогресса, прилаживаясь к солнечному колесу и отдавая посильную дань светилам на мифическом небосклоне. Бывает, что в расцвеченную ткань мертворожденных легенд вплетаются инородные нити бесцветной одушевленности, но они игнорируются народообразующим большинством и находят банальное истолкование у проповедников мифологии. В утешение ревностным приверженцам фантасмагорий с ними, не поступаясь совестью, можно согласиться, когда они утверждают, что их верования инспирированы Богом. Инспирированы. Как и все остальное под звездами. Как смогло бы укорениться нечто, Им не поощряемое?