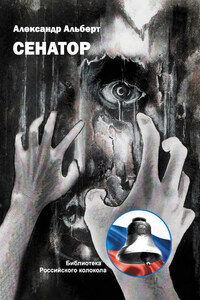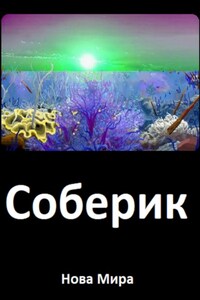Он, в отличие от некоторых, не помнил момента своего рождения, тем более, что окружающие вводили его в заблуждение, утверждая, что родился он или того или этого числа. Сам он считал, что права была мать, говоря, что родился он в начале февраля, холодной вьюжной ночью, в своем любимом селе, хотя в документах стояло совсем другое село, в которое, почему-то, его постоянно тянуло. Естественно, в документах стояла совсем другая дата – не мог же он одновременно родиться в двух разных местах. Почему все это происходило? Есть вроде правдоподобная версия о том, что мать, в отсутствие мужа, призванного в 29 лет на военную службу, назвала его в честь выдающегося летчика того времени – Анатолия Серова – Толиком, маловероятна. Судя по документу, найденному после смерти отца, он установил, что отец был призван на военную службу на год позже, в 1940-м году, когда было ему уже полтора года. Где был отец в момент рождения, почему он порвал первое свидетельство о рождении и поехал совсем в другое село, чтобы оформить сыну рождение на конец месяца?
Счастье, что дата была не 29-е, пришлось бы ему праздновать свой юбилей раз в четыре года.
С именем, данным новорожденному, тоже путаница. Якобы мать назвала его, как мы говорили ранее, Толиком, Анатолием. Почему это имя не понравилось отцу, непонятно. То ли потому, что и предыдущего ребенка, умершего в возрасте восьми месяцев, назвали Толиком – а это нехорошая примета! – даже, якобы, вернувшийся откуда-то отец, узнав имя второго новорожденного, вскричал: «Как! Ты хочешь, чтобы и этот умер?»
В сердцах и, наверное, под влиянием паров самогонки, выпитой с другом, секретарем сельсовета, новорожденному выписали новое свидетельство о рождении с новой датой и новым именем – Альберт!
В честь еврея Эйнштейна, что ли? Отец был учителем и, возможно, творец теории относительности и подвигнул его на этот подвиг.
Звучало роскошно – Альберт! Но поп Покровской церкви в его родном селе уже после того, как его заняли танкисты Гудериана, но еще не разбомбили наши – на ее колокольне находился наблюдательный пункт немцев, отказался принять от прихожанки, бабушки нашего героя, список лиц, которым положено пропеть: «Во здравие раба божьего…», где стояло его имя – Альберт, сказав, что имя это не христианское, а собачье и, следовательно, не заслуживало здравицы!
Бабушка сработала оперативно – побежала домой и переписала бумажку, заменив имя Альберт на христианское – Александр. Батюшка закрыл глаза на подделку и пропел: «Во здравие раба божьего Александра!»
Из-за этой путаницы он не стал рабом божьим, ему было стыдно креститься в церкви даже в те времена, когда креститься и целовать иконы стали секретари ЦК КПСС, в том числе по идеологии.
На всю оставшуюся жизнь он стал владельцем двух имен, причем в первые шестнадцать лет он был только Александром, Аликом.
Война застала его в возрасте два с небольшим года. По идее, он должен был помнить ее, но память оказалась избирательной – он ясно, фотографически помнил только отдельные моменты ее, и первым, трагическим, моментом была смерть дедушки, произошедшая на его глазах.
Он был первым и единственным внуком у своего дедушки Афанасия Сергеевича Брынцева, потомка песоченских мастеровых людей, перенявшего от них мастерство и ставшего знаменитым на всю округу кузнецом. Прадед, Сергей Александрович Брынцев, получил в период Столыпинских реформ надел земли в несколько гектаров и, надо полагать, успешно работал на ней. В хозяйстве была пара лошадей, несколько коров и, без особого счету, остальной живности. Обязательно держали овец романовской породы – всякий праздник встречали с бараниной.
Большевики согнали его с надела, обобществив крупную живность, заставили разобрать деревянный дом и перенести его поближе к власти, в село Дегонка. Но прадед не стал рабом в колхозе, каждое утро он шел за двадцать километров в Песочню на чугунолитейный завод, где работал мастером на все руки. Его сын, Афанасий Сергеевич, прямо в сенях перенесенного дома устроил кузню, таким образом, тоже отделившись от колхоза. Наш герой ясно помнит большие меха, подававшие воздух для горения угля, приводимые в действие веревкой, которую надо было тянуть вниз. От старого надела остался прекрасный сад, попытки перенести его на новое место не удавались – слишком большими были деревья. И пока, уже после войны, деревья не погибли от безуходности, этот сад назывался Афонькиным, и право сбора яблок в нем признавалось за Афонькиными.
Дед погиб от осколка снаряда, разорвавшегося в горнице. Внук сидел под большой русской печкой, там, где обычно держали дрова, чтобы они подсохли. Вроде бы с ним была мать, но этого он не помнит. Прямо перед ним, за простым обеденным столом, на стене висела кухонная полка и где-то вверху над ней горела слабым светом лампадка. Он не помнит разрывов снарядов, но почему-то ясно помнит тонкое, стеклянное треньканье посуды, стоявшей на полке.
И самого взрыва не помнит, но чётко помнит фигуру деда в исподнем, стоящую рядом с печью перед дощатой перегородкой, отделявшей кухню от горницы. Дедушка держался правой рукой за живот, из-под руки на белую рубаху текла черная кровь. Помнит слова деда, обращённые к дочке, матери героя: «Зоя, меня убило». Осколок прошил тело дедушки со спины и той же ночью он умер. Что было дальше, какие были крики, стоны, действия, он не помнит. Бабушки дома не было и он, наверное, ждал ее до утра, охваченный непонятным ужасом смерти. Он первый услышал стук в заиндевелое окно, подбежал к нему, дыханием протаял кружок, сквозь него увидел в утренних сумерках лицо бабушки, и закричал: «Бабушка! А нашего дедушку убило!» Тело деда в самодельном гробу, сделанном из разобранной перегородки, пролежало в сенях до конца марта, пока земля не оттаяла, и пока не затухли кровавые бои, проходившие в пяти – двадцати километрах от села.
Позже, копаясь в архивах, читая воспоминания и описания участников боев, он найдет оперативную сводку группы армий «Центр» – утреннее донесение 12.02.42 г.: «4-я армия сообщает: 40-й танковый корпус: Группа «Ронеке»: артиллерийский огонь на Дегонка». Именно в ночь с 11-го на 12-е февраля произошла эта трагедия.
Как выжило село, находясь от линии фронта на расстоянии 4 км в течение полутора лет, и как выжили он и остальные обитатели – это, наверное, одному Богу известно. Село было расположено в лощине, повторяя очертания текущей внизу речки Дегна, воды которой через Болву, Десну и Днепр бежали в Черное море. Все, что было расположено на окружающих речку холмах, было разрушено – Покровская церковь, дом помещика Ардалионова, дом священника, его прадедушки по отцу. В селе находился штаб немецкой дивизии, входившей в состав 4-й танковой армии вермахта. Само село располагалось в очень опасной близости к Варшавскому шоссе, в зоне северной части брянских лесов. На юге проходила не менее опасная с военной точки зрения магистраль – Киевское шоссе. После того, как немцев отбросили от Москвы, в начале 1942 года нашим удалось с ходу захватить Киров (бывшую Песочню) и перерезать железную (рокадную, как говорят военные) дорогу соединявшую Брянск, Вязьму и Ржев, тот самый коготь, нацеленный на Москву, который Гитлер назвал воротами в Берлин, и который приказал отстаивать до последнего солдата. Удерживая Ржев и Вязьму, немцы тешили себя надеждами на возможность повторного броска на Москву. Единственной магистралью, питавшей голодных и замерзших солдат вермахта, была Варшавка. Именно здесь обломилось военное счастье Жукова, не сумевшего подрезать под корень этот коготь, несмотря на то, что поражение немцев казалось таким близким – в тыл к немцам прорвалась 33-я армия генерала Ефремова, но немцы сомкнули за ней горло прорыва. Был высажен юго-западнее Вязьмы десант, туда же прорвался первый гвардейский кавалерийский корпус Белова и прорывались они как раз через Дегонку. На память об этом прорыве остался в селе раненый конь Карька, сильно хромавший, почему и не был реквизирован немцами сразу, но, когда пришлось срочно уносить ноги, они его все-таки забрали.