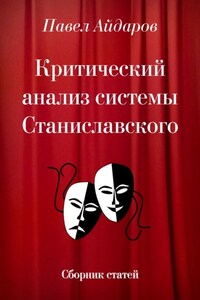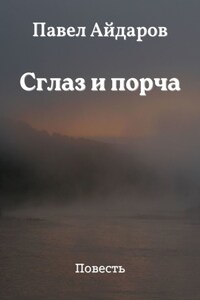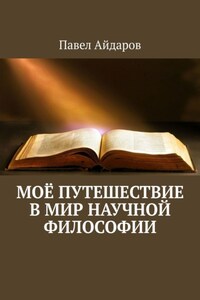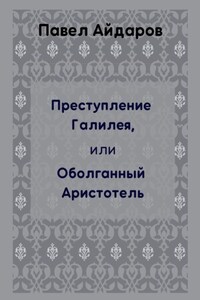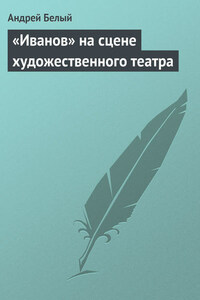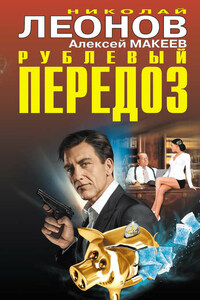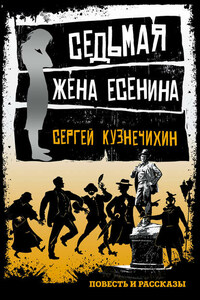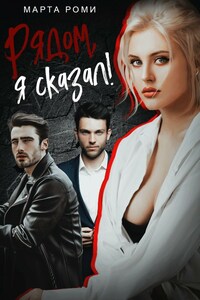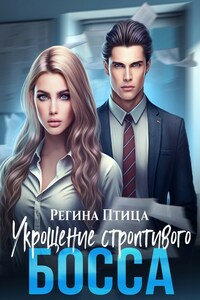О «сверхзадаче» произведения и системе Станиславского
Понятие «сверхзадача» в настоящее время имеет достаточно большую популярность и прочно вошло в актёрскую практику благодаря системе Станиславского. Принимается это понятие почти безоговорочно и без критического осмысления. Что такое сверхзадача? Согласно Станиславскому, это основная идея писателя, из которой, как из зерна, вырастает всё произведение. Основная же линия действия, которая воплощает эту идею и которую должен раскрывать по ходу пьесы актёр, называется «сквозным действием». Важно заметить, что система Станиславского в своём практическом применении так или иначе сталкивалась с серьёзными неудачами. Причины этого были разные, но одной из основных Станиславский называл именно отсутствие «сквозного действия», т. е. если артист овладеет различными элементами «системы», но в его работе не будет «сквозного действия», положительного результата ждать не стоит.
Поиск в пьесе основной идеи вовсе не был новшеством Станиславского. Это существовало и ранее. Так, Н. И. Сведенцов в «Руководстве к изучению сценического искусства», вышедшем в 1874 году, пишет:
«Прежде всего, надобно внимательно прочесть всю пьесу и уяснить себе путём литературного, критического разбора значение её основной идеи и драматической интриги» (3, с. 190—191).
Однако Станиславский не только по-новому назвал основную идею, он также дал ей своеобразное истолкование.
Во времена Станиславского вопрос об обязательном наличии в художественном произведении основной идеи был достаточно обсуждаем. Суть стремлений такую идею выделять достаточно чётко обозначил А. Горнфельд:
«Когда говорят: „что выражает это произведение, что хотел им сказать автор?“, то явно предполагают, что, во-первых, может быть дана формула, логически, рационально выражающая собою основную мысль художественного произведения и, во-вторых, что эта формула лучше, чем кому-нибудь, известна самому автору» (1, с. 4).
На что здесь следует обратить внимание, так это на слова о логической, рациональной формуле основной идеи. Дело в том, что у Станиславского постановка сверхзадачи выглядит по-иному. Рассудочный характер сверхзадачи он отвергает:
«Нужна ли нам рассудочная сверхзадача? Сухая, рассудочная сверхзадача нам тоже не нужна» (5, с. 424).
Но почему она не нужна? Станиславский это никак не обосновывает. Следует заметить, что рассудочный тип познания представляет собой познание через понятия и суждения и противопоставляется познанию интуитивному. В этом смысле, любая чётко сформулированная сверхзадача будет рассудочной. Но если мы отказываемся от рассудочности, то как же должна выглядеть сверхзадача?
Необходимо заметить, что Станиславский, создавая свою систему, пользовался на сегодняшний день устаревшим, но в то время достаточно распространённым делением психических процессов на мышление, чувства и волю (по-другому: на познавательные, эмоциональные и волевые). Основой сверхзадачи он делает волю, отождествляя её с хотением. Ставить знак равенства между волей и хотением (желаниями) – это в психологической литературе того времени встречалось часто. Однако следует различать желания сознательные и бессознательные, инстинктивные. При этом одни могут противостоять другим. Если, например, у человека появилось чувство голода и он, руководствуясь пищевым инстинктом, собирается принять пищу, то о волевом действии здесь нет речи. А вот если он, руководствуясь желанием сбросить вес, сознательно ограничивает себя в еде, то мы уже имеем дело с волей. Воля относится только к сознательным желаниям и может быть определена как способность действовать в соответствии с сознательно поставленной целью.
Станиславский такого различия не делает. Он говорит просто о хотении, не уточняя, является ли оно сознательным. Основное хотение персонажа и выступает в качестве сверхзадачи. Станиславский пишет, что «именно волевой стержень эмоций должен уловить актёр… вдумываясь в каждый кусок роли, он должен спросить себя, чего он хочет… Ответ на этот вопрос должен быть дан не в форме существительного, а в форме глагола: „хочу овладеть сердцем этой женщины“, „хочу проникнуть к ней в дом“, „хочу устранить охраняющих её слуг“ и т. п.» (4, с. 66).
Волеустремления каждого героя в каждой отдельной сцене обобщаются, в результате чего выявляется сверхзадача отдельной роли. Из обобщения сверхзадач ролей получается сверхзадача всего спектакля.
Тот «волевой стержень», который Станиславский предлагает искать в каждом куске роли, становится основой чувствований. Отношение между волей и чувствами раскрывается Станиславским очень скудно – можно сказать, что почти вообще не раскрывается. Но это отношение можно представить следующим образом: внутреннее устремление персонажа, его цель, мотив служит основой для формирования чувств, т. е. положительная или отрицательная оценка происходящего зависит во многом от того, что человек хочет, желает, от его потребностей и мотивов: если хочет одного – будут одни чувства, если другого – то, те же самые обстоятельства вызовут совсем другие чувства. Эмоции тем самым оказываются подчинёнными воле (отождествляемой с хотением). Это достаточно упрощённое понимание отношения чувств и воли – на самом деле, вопрос их соотношения намного сложнее, ибо не только воля влияет на чувства, но и чувства на волевые устремления…
Итак, согласно Станиславскому, воля выходит на первый план, чувства ей подчинены. А мышление? Мышление же здесь обходится стороной. Получается, по Станиславскому, что все персонажи живут исключительно желаниями и эмоциями. Между тем воля тесным образом связана не только с чувствами, но и с мышлением: путём размышления сознательная цель формируется, а с помощью воли направляются действия по её достижению. Если персонаж актёра не мыслит, то, при отсутствии других факторов, влияющих на волю, вполне возможно, что он будет на протяжении всего произведения иметь единое устремление. Однако если он размышляет, то результаты размышлений могут влиять на его волевые устремления. И вовсе не факт, что кардинального изменения в волеустремлениях не последует…
Аналогично через хотение, волевое устремление Станиславский пытается представить сверхзадачу писателя. Но примеры этого очень скудны: в «Братьях Карамазовых» таковой называется богоискание, во многих произведениях Л. Толстого – стремление к самосовершенствованию, во многих произведениях А. Чехова – борьба с пошлостью, мещанством и стремление к лучшей жизни.
Достаточно важным моментом является то, что между сверхзадачей актёра и сверхзадачей автора не должно быть отличий. Станиславский пишет: «…при постановке всякого значительного художественного произведения режиссёр и актёры должны стремиться к возможно более точному и глубокому постижению духа и замысла драматурга, и не подменять этот замысел своим» (4, с. 57). Также в «Работе актёра над собой» говорится: