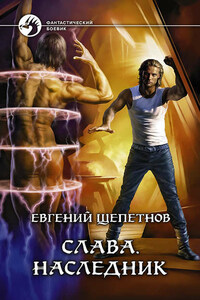Военкомат областного города. Обнесённое чёрным металлическим забором трёхэтажное здание с зарешечёнными окнами первого этажа. Очень отталкивающее внешне место, отчего-то напоминающее тюрьму. К сложившейся параллели наталкивает не поддающееся описанию внутреннее устойчивое нежелание приближаться к этому месту, а, уж, находиться в нём является действительной пыткой, вызванной непониманием причин, почему собственно я нахожусь здесь, и неизвестностью, чем же всё это закончится.
Изнутри военкомат выглядит менее отталкивающе, даже цивильно, но почему-то именно эта больничная опрятность, воспроизведённая как будто с целью успокоить посетителя, снять нервное напряжение и расположить к себе, настораживает ещё сильнее. Словно тебя ведут на плаху, а вместо эшафота красная ковровая дорожка, возводящая по мраморным ступеням. Только спокойнее не становится – вместо этого озадачивание, что что-то не то.
Чистый обитый плиткой пол, обновлённые пластиковым покрытием стены, навесной потолок. На верхних этажах картина не меняется, вот только лестница – связующая звенья конструкция – выдаёт облик заведения, всегда страждущего принять в свои сдавливающие объятия молодых пареньков, никогда не только не думающих об этих стенах, но и будто не ведающих о них. Вид лестницы пробуждает в памяти внешний облик военкомата, уже успевшего слегка затуманиться в сознании под действием внутреннего убранства помещений.
Нас интересует верхний этаж, где на всём протяжении уходящего вдаль коридора расположились неровными группами призывники, все вместе образующие внушительную массу желторотых юнцов, кои из которых смиренно молчат, сидя на мягких стульях, уставившись в пол; некоторые оживлённо перешёптываются; иные же нервно мерят шагами расстояния от одной стены коридора до противоположной.
Периодически перед ожидающими открываются двери, и мужской голос пронзительно кричит: «Следующий!» Далее кабинет проглатывает паренька, и через пару минут возвращается озадаченное лицо. Хоть и выбор не велик, ты почему-то судорожно гадаешь, что же ему сказали, что он так изменился. Но пока ты поглощён раздумьями о судьбе желторотика, тот же голос, уже из-за закрытой двери вновь, как заведённый механизм, настроенный на одну волну, разражается кличем: «Следующий!»
И есть что-то странное в этом голосе. Да, он мужской. Но каким бы строгим, громовым или грубым он ни был, ты угадываешь в нём молодеческие нотки. Минутная застопорённость в коридоре, и вот, дверь снова распахивается (именно распахивается, поскольку открывают и закрывают её робким движением только призывники и посетители, а работники, не церемонясь, гремят ей в возвратном и поступательном движениях) и на пороге показывается девятнадцати-двадцатиоднолетний паренёк со словами: «Чего не проходим?» – и возвращается за стол, заваленный кучами справок, папок с делами и кипами прочих документов. Всего столов в кабинете два: за противоположным, точно так же захламлённым, сидит такой же студентик.
Стоит чуть-чуть подождать, а, к сожалению, ни к военкомату, ни к прочим социальным организациям, в которых ты теряешь половину своей жизни, слово «чуть» никак привязать не получается, и из соседних кабинетов покажутся ещё двое молодых людей, твоих примерных ровесников.
Вся эта молодёжь – дети тех работников военкомата, которые решили отмазать своих отпрысков не денежной мздой, а работой до определённого срока в стенах заведения, которое «законным» способом отнимает детей у родителей, дабы те стали орудием в руках власти и в любую секунду, не задумываясь, взялись за инструмент, сеющий смерть и разрушение, и пошли бы вершить волю правителей, попросту рабами.
И среди потока недобровольно приходивших молокососов сидел, ожидая своей участи, молодой человек, студент-пятикурсник, ещё не зрелая, но созревающая личность, умудрённая временем, используемым разумно, что доказывалось уже одним тем, что он пришёл сюда с определённой жизненной позицией, рассмотренной с многих ракурсов, не бездумной, а проработанной анализом чувств, мыслей, отношением к жизни и человеку.
Молодой человек, названный родителями именем Леонид; не в первый раз он здесь. Много воды утекло с тех пор, как радикально поменялось его отношение к военной службе, ещё больше с того времени, как впервые оказался в стенах военкомата. И сейчас он вспоминал тот день, когда ему вручили предписной билет, и в совсем ином свете теперь представлялась картина классного похода в военкомат с сопровождающим учителем.
Сейчас, когда образ службы с её обязательностью предстал в истинном свете, то посещение военкомата было сравнимо с загоном жертв холокоста в газовые камеры и печи. Тот же учитель, исполняющий свои обязанности, на самом деле не ведающий, что творит, как надзиратель лагеря, ответственный за доставку пленных к месту смерти, не соображающий, что вершит; те же дети, ученики, не имеющие понятия о месте назначения и что кроется за ним, как те евреи, недоумевающие, куда их ведут (разве способен человек вообразить, до какой низости и жестокости может пасть его собрат), с той лишь разницей, что одних вели на смерть земную, других – либо к вечному рабству, либо к клятвопреступлению; те же стены, с той разницей, что в одних освобождают от рабства, рабства телесного, уничтожая, а в других их производят, но производят умело, не принуждая под дулом пистолета, а внедряя в сознание идею о родине, служении на её благо, разобщённости с остальными нациями, грозя за несогласие тюрьмой и клеймя изменником.
Оглядываясь назад, Леонид, глубоко копая в душе и памяти, признавался, что никакой перемены во взглядах и не было, доброта всегда была свойственна его натуре; и чем откровеннее он признавался себе, тем отчётливее понимал, что то добро, чувствуемое, сознаваемое и прилагаемое им, пребывает в каждом из присутствующих. Он признавался, что недавнее его не желание, а предпочтение (при неизбежности службы) оказаться на флоте с той единственной причиной, что он, возможно, увидит заповедное море и иные края, родилось именно от незрелости мысли, развитию которой способствовало время, проведённое в университете и употреблённое на самообразование. Именно отсутствию этого фактора он приписывал готовность каждого из находящихся, кто далёк от оружия и клятв, отправляться в армию. С печалью в сердце он смотрел на только что выпустившихся школьников, самостоятельно не имеющих ни знаний, ни времени, ни повода задуматься над смыслом службы.
И в то же время он благодарил судьбу за то, что у него имелась возможность развиться, за то, что у него к поступлению в университет отменили военную кафедру, о чём поначалу жалел, а теперь, имейся она в ВУЗе, отказался бы от поступления туда. Благодарил и тяготился, нет, не знанием, а только обладанием им об устройстве общества, против которого вынужден пойти. А вынуждает ложь, окутавшая жизни миллиардов.