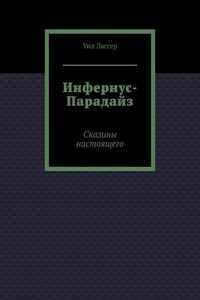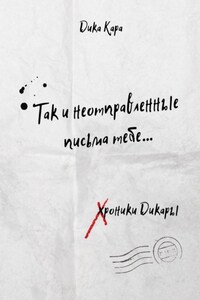И смерть почему-то напоминает мне о китайцах.
Харуки Мураками
«Всему есть предел»
Маша не любит просыпаться. А кто – любит? Собака. Но Маша – кошка. Которая сама по себе. До известных пределов, конечно. Но когда пределы известны – просыпаться не так уж весело.
Потолок потрясающе никакой. Дырочки в бетоне, как звезды. Звезды – такие же дырочки в бетоне? Что если космос – туда же? Крышка на чайнике.
Мысль соскакивает, как Мазик, которая за-скакивает на грудь и – выпускает/запускает/выпускает/запускает коготки из лап, словно чеки, и «не чуть-чуть» юзает рубашку, и чуть-чуть – кожу. И: тарахтит. Маша гладит кошку, чьи пределы еще более удручают, а та довольна. Это потому что кошка – ночное животное.
Маша лежит. Лежать хорошо. Мазик тоже так думает и сворачивается клубком на животе. От нее тяжело и тепло, как от глубокой миски с теплыми блинами. В животе урчит. Желудок тоже хочет стать кошкой: выпускает/запускает коготки изнутри.
Маша подхватывает зверя – лапы повисают, как вырванные из земли корни – и пересаживает на пол. Холодно. Говорят ступни. Маша подбирает носки – ноги оборачиваются фантиками.
Подходит к окну. На окне – книжка. Маша крутит ее, поворачивая к себе то переплетом, то страницами. Избушка на курьих ножках. За окном – темнота. Как будто ночь вечна. Даже в семь утра. Маша берет с подоконника древний плеер, открывает деку, переворачивает кассету, надевает наушники, нажимает «play». Тишина умирает. И все маленькие звуки тоже: сопение Мазик, ток крови, шелест бытия.
Выкручивает бегунок до предела – грохот вонзается в уши, словно гвозди в мягкое дерево, только шляпки торчат. В окне все – то же, но в комнате что-то изменилось. В ней Кто-то появился. Прямо за спиной. Молот музыки разрушил стену. И этот Кто-то сейчас коснется плеча. А если обернуться? Маша не оборачивается. Слишком страшно. Не ужас, что за спиной кто-то есть, останавливает ее, а ужас, что за спиной нет никого. Нервы слабые, как у Орфея.
Взгляд назад.
Эвридика в хлам.
Мазик разлеглась поперек кровати. Хочется поменяться с ней местами. Но у Мазик нет рук. Как же тогда писать, переворачивать страницы, включать плеер?
Stop. Наушники сползают на плечи. Стена восстает до последнего кирпича.
Маша подбирает брошенный в кресло предмет – не кофта, а субстанция – вдевается в wool 100%, вытаскивает наушники сквозь ворот и отправляется на разведку.
Бабуля жарит-парит. На сковородочке. Холодное тесто шипит на раскаленном чугуне, будто в прошлой жизни соблюдало заповеди постольку-поскольку. А что если нет никакого ада, а есть – универсальная система перерождений, когда однажды становишься жидким тестом, чтобы тебя хорошенько распекло за все прошлые прегрешения?
– Хай, Бабуль, – приветствует Маша, и Бабуля вздрагивает.
– Солнышко, ну что за ужасное приветствие? Как будто мы живем в нацистской Германии.
– Если бы мне хотелось создать соответствующую атмосферу, я бы добавила «ль». А тебя бы звала Адольф.
– Какое счастье, что настолько ты не заморачиваешься. Последи за кофе, он вот-вот убежит, а у меня, как видишь, руки.
Маша смотрит на означенные руки, которые действительно «как руки» и – заняты: они неустанно карают заблудшие души, превращая их в питательную среду для тех, кто только в начале пути.
Интересно, передаются ли чужие грехи, подобно молекулам пластика? Круговорот грехов в природе: выпадают из Рая, выпариваются в Аду, чтобы на земле было чем дышать. «Продукт может содержать следы арахиса», чревоугодия и гордыни.
Кофе смотрит на Машу из турки, хлопая не глазами, но глазками – пенки, как будто Бабушка Кофе тоже выдала ему что-то вроде: «Последи за ее лицом, а то вот-вот убежит. Видишь? У меня руки».
– Ну, как ты тут поживаешь? – спрашивает Маша у кофе и понижает голос, чтобы подать реплику за напиток.
– Уже подхожу.
– Молодец.
– Еще какой.
– Возьми с полки пирожок.
– Мне не дотянуться.
– А ты изловчись.
Бабуля фыркает и качает головой, а кофе тем временем изловчается и подступает к медному краю, как голова тигра к горящему кольцу. Маша снимает турку, ручка словно тревожится, сообщая пальцам внутреннее кипение, которое эта ручка транслирует, будто медиум бурлящие голоса призраков. Лишенная пламени кофейная пена оседает и возвращается в известные ей пределы.
Хагакурэ
Маша бросает прихватку на стол – у прихватки на днях обгорела петелька (по вине Маши, разумеется), и теперь ее невозможно подвесить. Обугленная петелька грустно чернеет, как обрезанное ухо.
– Надеюсь, ты не застрелишься? – спрашивает Маша прихватку.
– Что? – уточняет Бабуля, которая не расслышала.
– Я говорю, пахнет – пушка.
– Господи, у тебя, что ни восторг – все пушка! Откуда ты взяла эту пушку?
– В магазине купила.
– Молодец, – одобряет Бабуля. – Сходи в душ. Я погладила джинсы.
Маше не улыбается идти ни в какой душ: слишком холодно, а душ – лишний повод намокнуть, читай: замерзнуть. Она кутается в кофту, стягивая полы, как материки. Интересно, когда заледенеет Земля – так же завернется поглубже в океаны, сместив все континенты, как пуговицы?
– Потри морковку, – не просит, не предлагает, не требует, а просто как-то роняет Бабуля.
Слова лежат на полу, как сухие крылышки луковой шелухи, и если подуть на них – они поднимутся в воздух, точно мессершмитты, а еще точнее – призраки или идеи.
«Идеи витают в воздухе». Как призраки мессершмиттов. С крыльями из луковой шелухи.
Маша смотрит в тарелку – вареная морковка потеряла стержень. Самурай покинул свой Путь, свернул с тропы и идет по пояс в траве, размахивая вареной катаной.
Морковка не претендует ни на какие метафоры и не сопротивляется никаким метаморфозам. И вот – но до сих пор не конец – мягкотелая стружка слипается в печальную неопределенность. Бабуля добавляет сметану, как белую гуашь в рыжую, и раскрашивает блинчик.
Маша гладит морковное тельце в пальто из теста и приговаривает:
– Не грусти.
– Поздравляю, – объявляет Бабуля.
Блинчик-номинант, подошел к последнему рубежу, который либо Рубикон, либо Оскар.
– Пора, парень, – откликается за него Маша.
– С днем рожденья, солнышко. Расти большая. Будь здорова, – желает Бабуля и выкладывает на стол коробочку, принаряженную как в платьице в крафтовую бумажечку, расписанную разными рыбками и скрепленную нерушимыми узами грубоватой веревочки.
Обнимает, как облако. Теплое и душистое. Едва слышится «звездочка» – когда у Бабули болит голова, она мажет виски бальзамом и утром часто пахнет вечерней головной болью.
Облако целует в волосы, гладит по щеке и, покидая, будто тучка – утес, спрашивает:
– Ну что? В душ только после завтрака.
Маша сомневается, что после завтрака будет – душ, но согласно кивает и продолжает влиять на судьбу морковки, организовав той тайную встречу во тьме под нёбом с зубами-заговорщиками. Предательство перерождается в пряную сладость: имбирь, кардамон, корица, гвоздика, мускатный орех, которые Бабуля регулярно размалывает в кофемолке и добавляет абсолютно во все. Даже в котлеты.