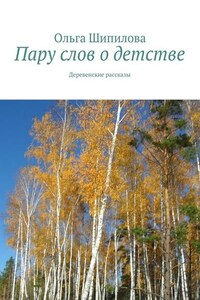Я сижу на кровати. Трогаю свой череп. Он твердый, туго обтянут едва теплой кожей. За полночь. Странно: у меня совсем не осталось подкожного жира, вместе с которым почти исчезли половые признаки, я превращаюсь в «оно». Но все, что раньше пугало меня – потеря женственности, красоты – перестало существовать. Волосы опадают с головы, мои длинные шикарные волосы – зависть многих. Ноги и руки, как ниточки. Детское тело и хрящи вместо костей. Но я давно не ребенок. Я снова перестала есть… Мне тихо и страдальчески счастливо от этого. Такое чувство бывает у глубоких стариков, испускающих последний дух на смертном одре, когда жить наскучило, жалеть не о чем, а смерть приносит упоительную сладость легкого избавления от бренности житейских тягот. Но все же что-то мешает мне в полной мере ощутить покой внутри. Не до конца еще избавилось тело от страстей, ноет болью сердце.
Поднимаюсь, иду к окну своей темной комнаты на втором этаже большого дома. Влипаю в стекло. Напротив раскинула веретено кроны груша. Это я ее посадила. Она огромная. Достает ветвями до моего окна. И мешает мне. Всматриваюсь: через редкие осенние листочки моргает одним своим уставшим глазом садовый фонарик. Такой одинокий… Бегут горячие неуемные слезы по впавшим щекам. Фонарик освещает могилу моего пса, умершего совсем недавно и похороненного на придомной территории. С ним прожила я целых десять лет, он был немым свидетелем моего ночного писательского сиротства, поэтических терзаний, сценических репетиций, голода, записей выступлений. Он знал меня лучше, чем кто-либо. Хранил мои тайны. Я боролась за его жизнь 12 часов, и когда мой «немец» скончался на руках моих, я перестала наслаждаться вкусами вовсе. Отравилась его смертью… Чуть дальше, за забором, белеет силуэт. Это соседская собака, лабрадор Альбинка, недавно привезенная из приюта. Люблю ее. Она пахнет сухой травой. Чую запах через стекло: чем тоньше становится тело, тем ярче мои вымыслы. На секунду забываюсь запахами, вспоминаю каково это чувствовать их. И снова мной владеет фонарик. Боюсь его.
Кружится голова. Возвращаюсь в постель. Не спится. Волосы не дают покоя. Я любила их. Хочу, чтобы они остались на моей голове, а мысли внутри нее покинули меня. Но и мысли мои стали какими-то короткими, скудными, точно обглоданные кости. А ведь раньше меня считали виртуозом деепричастных оборотов и эпитетов. На некоторое время погружаюсь в ступор. В голове мягкая вата. Стучит веткой груша в окно, пробуждая болезненный мыслительный процесс. Начинаю снова думать о еде. О том, что она противная, и как ловко я от нее избавилась. Ее нет ни на столе, ни в моем желудке. Вспоминаю себя весом 64 килограмма, до чего же много! Долго пыталась понять, к чему вообще пихала в себя пирожки и булочки. Деньги родных и унылые походы к психотерапевту помогли разобраться: причиной всему мой отец-иностранец, которого я никогда не видела, но создала идола из одного только имени его. Мой мертвый отец. Я так страстно ждала его любви, его присутствия в своей жизни, которого так и не произошло, что стала заполнять себя едой, однажды превратившись в толстуху. Когда же смогла постичь смирение, отказалась от тайной мечты прикоснуться к нему пусть не живому, но хотя бы к земле, упокоившей его, поняла, что больше не нуждаюсь в нем. И в еде, его заменяющей. Я приказала себе не есть. Я не есть больше его часть. Я не должна есть. Я вообще не есть, телесно почти не существую. С болью понимаю, что продолжись начатое мной – и те немногие отголоски моего телесного будут погребены забвением. Но так тихо, так спокойно быть этим бесполым существом, так мягок и нежен плен анорексии, что я не желаю обратно в сочное тело и тревоги, влекомые здоровьем.
Многие назовут то, о чем я сейчас говорю, проблемой, пришедшей в нашу современную жизнь из мира моды, подиумов, показов с их пропагандируемыми стандартами и требованиями красоты. Однако я не вижу никакой проблемы в том, чтобы тело было совершенным. Тяготение к идеалу, к пропорциям красоты появилось не здесь и не сейчас, уже одно только «золотое сечение» Леонардо да Винчи тому свидетельство. Я не стану рассуждать об опасности анорексии, ибо она не страшнее рака, депрессии или бодипозитива. Я хочу рассказать историю о том, как голод занял лидирующее положение в моей жизни, отняв все желания кроме обладания смертельной худобой, где я вновь и вновь прохожу витки спирали анорексии, изведав только один путь к счастью и успеху – не есть! И это моя история, одна из тысяч ей подобных. Так пусть она начнется, продолжится и будет даже тогда, когда тело мое перестанет существовать.
Меня всегда тянуло к местам, где обнажаются скелеты ветвей и черепа лысых скал, в безжизненные города, манящие пустыми глазницами ослепших окон, к людям, чьи тела просвечивают вены и кости. Меня тянуло к тому, что не имеет в себе ничего лишнего, к тому, что прекрасно в голизне своей. Тело человека подобно глиняному сосуду: первозданному, хрупкому, тонкому – сколь же отвратителен этот сосуд, если обтянуть его грубой толстой мешковиной. И так отвратительно для меня все, мешающее пробиваться наружу совершенству человеческих линий, острых углов, суставов, идеальному сплетению мышц, игривому порыву кровеносных сосудов. Тело пленительно неприкрытостью худобы своей. Всю свою жизнь я стремилась к познанию совершенной красоты в любом ее проявлении: слове, поступке, действии, природе, строении организмов. Я стремилась к поиску красоты даже в том, что другие считают пороком. Мной владело желание создать картину иного, утонченного мира, которому буду принадлежать как завершающий штрих безукоризненности.
Еще пару месяцев назад я была уверена, что вот-вот достигну изысканности естества своего. Стоит всего лишь повысить физическую активность, добавить в рацион животного белка в качестве ужина не позднее шести часов вечера. Это происходило в Ялте. Мне казалось, я почти вписалась в великолепие, созданное природой. Не хватает всего чуть-чуть, чтобы станом своим сравниться с безупречными свечами кипарисов. Тогда у меня еще были волосы. Такие длинные и густые! Люди оборачивались вслед. Я не знаю, сколько я весила, но моя одежда самого маленького 38 размера была великовата, и я почти нравилась себе. Почти… Пока в голове не щелкнуло.
Хорошо помню этот день. Я лежу на пляже. Раннее утро. Пляж не оборудован, я не случайно выбираю такие места. Здесь тихо. Никто не мешает думать. А думаю я всегда. Из публики больше люди преклонных лет. Мне нравится лежать, подставив лицо солнцу, ощущать кожей, как тепло крадется по ней, замирает, жжет, пощипывает. Я почти не дышу, чтобы не спугнуть ленивый луч, уснувший у меня на ключице. У самых ног важно ходит баклан Альбатрос. Большой, серьезный и оттого такой трогательный. Чуть дальше устроили крикливую возню молодые бесподобно-белые чайки. Их вскрики гармоничны с шумом моря. На этом пляже гармонично все: синее и серое, белое и ртутное. Никаких шезлонгов, зонтиков, детей и надувных матрасов. Море не режут оградительные сетки. Внушительный один единственный буек, покачиваясь почти на горизонте, улыбается желтым. Горделиво осматривает кораблики и яхты отважный маяк, летит в порт совершенство линий «Кометы». А я лежу, смотрю на свой живот – на нем есть подкожный жир, совсем немножко. Меня это нервирует. Не так давно жира не было вовсе. Для этого мне пришлось много трудиться над собой. Отказаться от любимых блюд, без устали упражняться и позабыть о ночных походах к холодильнику. Но потом я расслабилась, потихоньку начала употреблять запрещенные продукты, бродила по ночам – как результат – в перспективе могу превратиться в «нормальную». Нормальность я терпеть не могу, потому всегда стремлюсь вернуться к экстремальной худобе. Обожаю лавировать на грани, когда для окружающих уже не хорошо, а для меня еще не плохо. Год я боролась сама с собой – и теперь, лежа на необорудованном ялтинском пляже, пребываю у цели. Тело все еще сопротивляется, но мой разум убедительнее инстинктов набить брюхо едой. Я приказываю себе не есть и у меня это начинает получаться, хотя жир на животе словно не замечает моего голода, упорно греется на пляже вместе со мной. Его, правда, замечаю только я. Мой избранник, в эту секунду отлучившийся за коктейлем, почему-то игнорирует жир на животе, уверяя, что последний абсолютно плоский. Отвожу взгляд в сторону моря, оно прекрасно в совершенстве своем. Шумит, брызгает пеной, шуршит гладкой блестящей галькой. Потом скольжу глазами по золотым от солнца фигурам отдыхающих и убеждаюсь, что все же я прекрасна. Лежать на спине и одновременно осматривать людей мне мешает напряженная шея, переворачиваюсь на живот, упираюсь подбородком в костяшки пальцев. Приятно, руки худенькие, загорелые. Они мне нравятся. Теперь думать и наблюдать удобно. Подпираю голову кулачками и не без удовольствия рассматриваю часовню, возвышающуюся прямо над пляжем. Она возведена в честь Собора Новомученников и Исповедников Российских. Размышляю о них, потом о таких как я, потому как мы тоже мучаемся, занимаясь истязанием тел своих, исповедуем лишь нам открывшееся страстотерпчество. Мысли жалят мозг. Он точно опухает. Пылает голова. «Святотатство», – думаю я, шепчу слова извинения и перед Новомученниками и перед белоснежной часовней, которая будто обиделась не меня. Сегодня со мной что-то нет так, я слишком сентиментальна и заторможена. Чтобы отвлечься, решаю, что съем на ужин. Как ни крути, а человеческому организму нужно же хоть что-то употреблять. Использую научный подход и останавливаюсь на трехстах граммах куриной грудки. Без овощей, без хлеба и без соли. Овощи я люблю, но сейчас их не хочется, к тому же они содержат углеводы, а многие еще и крахмал. Испытываю удовольствие от решенной задачки, которая встает передо мной каждый день сразу же после пробуждения и терзает ровно до того момента, пока я не определюсь. Триста – не больше и не меньше. Сегодня не поддамся на уговоры урчащего желудка. Смогу, выдержу! В эту секунду я так гармонична, так рациональна, разумна, все так идеально сложено в моем мире: и этот пляж, и люди на нем, и часовня, и легкий запах эфиров, издаваемый лавандой в прибрежном кафе, травяным чаем, горячей выпечкой, можжевельниками, и моя любовь ко всему присутствующему, что я улыбаюсь. Однако это эйфорическое состояние длится всего пару минут, мой мир в одночасье начинает трясти, как от извержения вулкана. На пляже появляется она. И все рушит. Сначала я вижу огромный бумажный стакан с молочным коктейлем, успеваю сосчитать калории – не меньше пятисот, потом жирный пончик в хищной руке – столько же, и, наконец, живот. Такой плоский, что я не могу отвести глаз. Это не укладывается, не вяжется в моем мозге с пончиком и сладким коктейлем. Я дрожу. А мой подкожный жир увеличивается в размерах, копится в складки, застилает и море и пляж. «Так не бывает», – думаю я, отчаянно собирая кирпичики уничтоженного спокойствия. Смотрю на разрушительницу в упор, не стесняясь прямого изучающего взгляда. Дорогой купальник в каких-то вензелях (медленно угадываю брендового производителя), рядом топчется такой же, только шире, в кричаще кислотном исполнении. «Мать, – догадываюсь я, – женщина, породившая хищную руку с пончиком». Она для меня скучна: толстая, маленькая, еще не старуха. Кожа ровная, белая. Нарочито долго изучаю ее кожу, хотя мне это вовсе не интересно. Упорно избегаю посмотреть на лицо, в которое впился стаканчик с коктейлем. Перевожу взгляд. Успокаиваюсь немного. Лицо мне не нравится. Крупное, одутловатое, как у поросенка. С розовыми наливными щеками, вздернутым пятачком носа. Губки пухлые, крошечные для такого широкого лица, измазаны липким шоколадом; овальный язычок, как у канарейки, живо выскакивает изо рта, никак не может зацепить тягучие капли. Глаз я не вижу, их скрывают темные очки, только белесые ресницы едва просматриваются у черных дужек. Лоб высокий, плотный. Таким даже косяк задеть не страшно, косяк жалко. Светлые редкие волосы стянуты на темени резинкой. Ноги коротки, но из-за темной кожи кажутся стройными. А живот совершенен. С узкими длинными ребрами, выпирающими бронзой наружу, трепетными венами, спешащими в маленькие трусики купальника. Такой тонкий, что можно обхватить двумя пальцами сбоку. И тем омерзительнее совершенство этого живота, не вяжущееся с телом его обладательницы. Эти две стоят, требовательно осматривая пляж. Они не в восторге: слишком много бакланов и попрошаек-голубей. «Убирайтесь! – думаю я. – Вы здесь чужие!» Но они упорно стоят. Одна поворачивает голову в сторону Приморского пляжа, отсюда его не видно, но о нем знают все. Шикарный, в исполнении синего и белого, он притягивает отдыхающих. «Пусть же уйдут туда!» Но нет, та, что постарше, твердит, будто они только что с Приморского, и здесь на моем тихом необорудованном треугольничке с буйком, часовней, спешащей из Севастополя «Кометой», загорать комфортнее, не беспокоят тени от пляжных зонтов. Они ложатся в двух метрах от меня и загораживают море. Теперь я рассматриваю спины. Для этого я села, оторвалась от часовни и набережной, от гор и пальм. Спины шевелятся. Одна – узкая, длинная, вторая – широкая, в складочках. Я пилю глазами узкую. Внизу спина переходит в две сдобные булки. Они покачиваются, сдуваются, надуваются. Круглые, объемные. При всяком нажатии о камни, булки оказывают противодействие, лезет наружу изюм целлюлита. Забавно наблюдать. У меня его нет вовсе. Один мой знакомый сказал, что такие булки парням нравятся и легкий целлюлит очень даже кстати: вызывает слюнотечение и сексуальный аппетит. Не знаю, не знаю… Теперь эти слова меня задевают, чувствую себя сексуально непривлекательной. Сзади у меня не то что булок, но даже малюсеньких пасхальных куличиков, какие видела в Ялте перед Великим Праздником, нет. Мой избранник говорит, что это абрикос, причем немного неспелый. «Ух, – я вздыхаю, – да и зачем мне нужны такие понтоны, я же не пристань!»