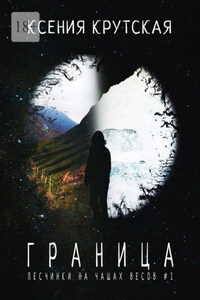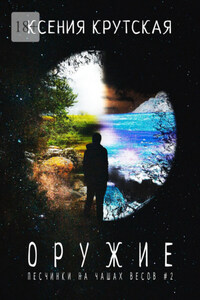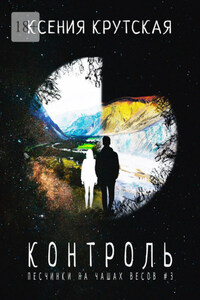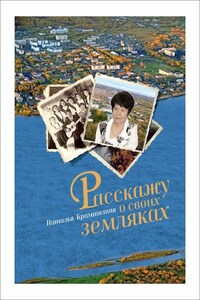«What created me
What and where and how?»
Bruce Dickinson – Accident of Birth
Верь в науку.
Поклоняйся аксиомам и теоремам, молись на формулы и графики. Свято чти законы природы и верь в то, что они незыблемы.
С благоговением читай и перечитывай труды светил науки – и сам становись таким светилом для других. Ищи ответы, находи объяснения. Строй гипотезы, проводи эксперименты. Опровергай или подтверждай.
Верь, что мир подчиняется законам физики.
Верь, что мир материален от начала и до конца.
И ты – его часть.
Верь – пока можешь. Пока ты и в самом деле являешься его частью.
Но однажды, когда ты почувствуешь на себе этот насмешливый, оценивающий взгляд – вся твоя рациональность, вся вера в торжество науки осыплются хлопьями черного пепла, как будто кто-то сжег твою самую блестящую статью и коснулся пальцем хрупкого остова твоих мыслей.
Когда смерть ищет тебя взглядом – кого или что ищешь взглядом ты?
Ты не поверишь сейчас, потому что еще не стоишь на грани. Но все же попробуй напрячь воображение. И, возможно, ты догадаешься: любой убежденный материалист будет искать бога. Не того, у кого в каждой человеческой религии свое имя, а того, который встретит на пороге и успокоит: не для того ты был создан, чтобы создатель вот так просто позволил тебе исчезнуть навсегда.
И бывает так, что бог, которого для тебя всю твою жизнь не существовало, вдруг откликается на безмолвную мольбу. И ты получаешь ответы на вопросы, которых так никогда и не решился задать, и уходишь спокойным и умиротворенным.
…А что если ты – ученый, который всю жизнь исследовал бога в своих лабораториях?
***
Что его разбудило? Ледяная иголка вдруг кольнула в сердце. Совсем легонько кольнула. Но почему-то сон прошел мгновенно, и сразу же сознание затопила терпкая и пьянящая смесь сладкой печали и горького сожаления. Не предчувствия, а принятия.
Она пришла – бояться бессмысленно, всё уже случилось.
Когда смерть смотрит тебе в глаза, не отворачивайся. Не поможет.
Орсо осторожно отодвинулся от лежащей рядом женщины. Скользнул взглядом по ее лицу: пушистые ресницы, четко очерченные скулы, расслабленно приоткрытые губы. Только бы она ничего не почувствовала. Только бы не проснулась…
Он легко вздохнул и посмотрел на свои руки, лежащие поверх одеяла. Это уже началось. Контуры пальцев, ладоней, запястий расплывались, плоть серебристым пеплом осыпалась на ярко-лиловый с крупными желтыми цветами пододеяльник. Странные все-таки у фру Маргариты предпочтения при выборе ткани для белья…
Всё случилось в одно мгновение. Стороннему наблюдателю показалось бы, что прошло не больше секунды. Для него же смерть, казалось, растянулась на бесконечные часы. Не мгновенный переход – а умирание как процесс. Каждая из нитей, связывающих физическое тело с матрицей, рвалась с нестерпимо режущим звоном, рассыпаясь в серебристую пыль, так похожую на пепел. И каждая из нитей, прежде чем исчезнуть, скручивалась и резала оборванным концом, подобно тому, как край листа бумаги с противным шипением рассекает чувствительный кончик пальца. Это было больно. Очень, очень больно. Особенно если вспомнить, что нитей этих – тысячи, сотни тысяч.
Орсо не испытывал сожаления. Не было и страха. Плывя в потоке чудовищной боли, он отстраненно думал – пока еще мог думать и осознавать себя – что бесконечно благодарен своему неведомому палачу за то, что хотя бы перед тем, как исчезнуть, он получил ответы на часть занимавших его при жизни вопросов. При жизни… После жизни, конечно, они уже не будут иметь ни малейшего значения. Но сейчас, на пороге – все еще интересно… И помогает смириться с происходящим.
И только мысль об Ольге отзывалась где-то внутри чем-то похожим на настоящее страдание.
Ее было нестерпимо жаль. Все-таки боль, предназначенная ему, в полной мере достанется ей – и не закончится в одно мгновение, а растянется на долгие часы, дни… Он хорошо знал ее. Агония может продлиться и годы. И никто и ничто не подарит ей милосердного избавления, никто не позволит уйти следом за ним. Каждая из оборванных нитей цвета оружейной стали хлестнет по ней, оставит кровоточащий след на сердце этой женщины, которая так спокойно лежит рядом, свернувшись клубочком и обняв подушку, и еще не знает, что пробудиться ей предстоит из сна в кошмар. На рассвете ее встретят только серый пепел и собственный крик.
«Прости за это. Я не хотел, ты ведь знаешь. Я не хотел».
А потом всё исчезло.
***
Нет. Почему-то исчезло не всё.
…Среди серых размытых силуэтов, похожих на колеблющиеся столбы тумана, прозрачной льдинкой блеснуло слово.
Оля?..
Будто звякнула о край пробирки тонкая стеклянная палочка. Будто капелька чистейшей воды покатилась по стенке высокого лабораторного стакана.
Странное слово. Чужеземное. Чужемирное. Имя?..
Единственная нить вместо сотен тысяч разорванных. Прочнее нет ничего ни в мирах, ни за их пределами.
Тот, кто был всего лишь одной из серых бесформенных теней, пока еще не понимал, что означает это слово, звучащее как нежное и мелодичное стеклянное позвякивание. Впрочем, и что такое стекло, и как выглядит лабораторная пробирка, он тоже не знал. И не знал, что он когда-то это знал. Не помнил.
Капельки падали, звенели, вели счет. А где можно вести счет – там появляется и время. А где есть время – там появляется изменение. Ты становишься одновременно старше, чем только что был, и моложе, чем станешь в следующее мгновение. Непрерывное движение, непрерывное перетекание из одного состояния в другое – вот что такое жизнь. В месте, где не было времени, его собственное время пошло отсчитывать себя звонкой хрустальной капелью. И его собственный мир сдвинулся с мертвой точки.
Бессчетное множество мгновений-капелек спустя он вдруг узнал о себе кое-что новое – и очень важное. Еще две нити нащупали свои оборванные концы, завязались прочным узелком.
Я был…
Сразу два важнейших слова, заключающих в себе самые основы существования.
Был. Бытие отделилось от небытия. Еще одно изменение, еще одно противопоставление.
Я. Я – это я. Я – не они. Не вы. Я – отдельное от других.
Я был. Я существовал и был кем-то, кто существовал только как Я. Другого такого не было. Нет. Не будет.
Пока на этом открытия закончились. Но в последующие отрезки времени таких узелков, понятий и взаимосвязей находилось всё больше. Выброшенный из мира, он понемногу строил, восстанавливал мир в себе.
Какие-то воспоминания так и остались в статусе чисто академического знания, например, ощущение прохладных половиц под босыми ступнями или припекающего тепла на щеке, обращенной к топящейся печи. Зато другие – четкие и яркие – позволяли даже тому бесплотному, бесформенному существу, которым он стал, верить в то, что у него есть право называться тем же именем, под каким знал себя тот, кем он был раньше. Орсо.