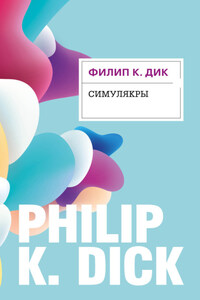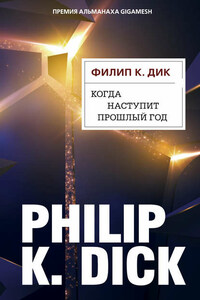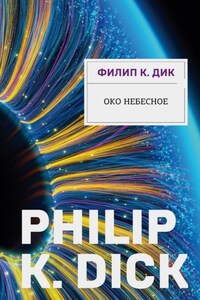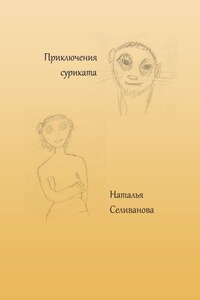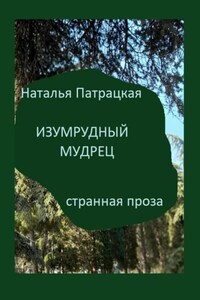Туман может наползать снаружи и пропитывать вас насквозь, он может вторгаться. Стоя у высокого окна своей библиотеки – озимандиевского[1] сооружения, построенного из глыб бетона, которые образовывали когда-то въездной пандус Приморского фривея, – Джозеф Адамс в глубоком раздумье наблюдал туман, туман, наползавший с океана. Потому, что ли, что был уже вечер и мир быстро темнел, этот туман пугал его ничуть не меньше, чем другой, который внутри, который не вторгается, а шевелится и расползается, заполняя собою все полости тела. Как правило, этот туман называют одиночеством.
– Выпить хочу, – канючащим голосом сказала сзади Коллин. – Ты мне не сделаешь?
– У тебя что, руки отвалились? – огрызнулся Адамс. – Не можешь выжать лимон?
Он отвернулся от окна с его видом на сухие деревья, Тихий океан и его отражение в небе; наползала тьма, и он на мгновение подумал: а может, и правда смешать ей выпивку? И тут же вспомнил, что ему нужно делать, где бы он должен был быть.
Он сел за мраморный письменный стол, вытащенный из снесенного бомбами дома, стоявшего когда-то в той части бывшего Сан-Франциско, которая называлась Русский Холм, и нажал на риторайзере клавишу «вкл».
Коллин со страдальческим стоном ушла искать оловяшку, который смешал бы ей выпивку. Джозеф Адамс не повернулся, но услышал, как она ушла, и был несказанно рад. По какой-то неясной причине – но тут ему не хотелось копаться в своих мыслях слишком уж глубоко – в компании Коллин Хакетт он чувствовал себя более одиноким, чем в одиночестве, а к тому же вчера, в воскресенье, поздно вечером он намешал и выпил какой-то ужас, до приторности сладкий, словно кто-то из оловяшек выкопал где-то бутылку токайского, и он по ошибке использовал его вместо сухого вермута, когда приготавливал мартини. Смешно сказать, но сами оловяшки никогда бы не допустили такой ошибки – это что, знак? Джо Адамс горестно задумался. А может, они уже стали умнее нас?
Для начала Адамс напечатал на риторайзере желаемое существительное. «Белка». Затем, после добрых двух минут мучительного раздумья, подходящее прилагательное: «хитрая».
– О’кей, – сказал он вслух, а затем откинулся в кресле и тронул клавишу «прогон».
В тот самый момент, когда Коллин вернулась в библиотеку с высоким стаканом намешанного из джина питья, риторайзер начал строить фразу.
– Это старая мудрая белка, – произнес он жестяным голосом (в нем был лишь маленький двухдюймовый динамик), – однако, строго говоря, ее мудрость не принадлежит ей самой; природа одарила ее…
– О господи, – почти выкрикнул Джо Адамс и с силой шарахнул по изящному, из стали и пластика механизму, начиненному тысячами микросхем; механизм тут же смолк. И только тут он заметил Коллин. – Извини, пожалуйста, но я просто жутко устал. Ну почему кто-нибудь из них, Броуз, или генерал Хольт, или маршал Харензаны – да хоть кто-нибудь, занимающий ответственный пост, ну почему никто из них не засунул воскресный вечер где-нибудь между полднем пятницы и…
– Милый, – вздохнула Коллин, – я слышала, как ты напечатал всего лишь две лексические единицы. Дай ей побольше жвачки.
– Я дам ей столько жвачки, что она сейчас подавится. – Адамс тронул клавишу «отмена», а затем напечатал целую фразу; Коллин стояла за его спиной, отхлебывала коктейль и наблюдала. – Ну, как теперь?
– Не пойму я тебя, – сказала Коллин. – То ли ты влюблен в свою работу, то ли ты ее ненавидишь. – Она прочитала фразу вслух: – «Хорошо осведомленная дохлая крыса шумно возилась под косноязычным розовым бревном».
– Вот, – мрачно сказал Джо Адамс. – Посмотрим, что этот тупой вспомогатель, стоивший мне пятнадцать тысяч, сделает с такой вот штукой. Я говорю вполне серьезно. Ну, поехали. – Он ткнул пальцем в клавишу прогона.
– Когда эта речь должна быть готова? – спросила Коллин.
– Завтра.
– Ну, встанешь пораньше.
– Нет уж, только не это.
С утра, подумал он, мне вдвойне противно.
– Все мы привыкли думать о крысах как о своих врагах. – В сверчковом голосе риторайзера появились народные нотки. – Но подумайте хотя бы об их огромной ценности для изучения раковых клеток. Непритязательная крыса бессчетные годы служит йоменскую службу всему челове…
Еще один удар, и машина заткнулась.
– …честву, – закончила Коллин; она меланхолично рассматривала где-то выкопанный аутентичный древний бюст работы Эпстайна[2], стоявший в нише стеллажа, где Джозеф Адамс держал литературу по телевизионной рекламе прошлого великого двадцатого века, в частности о религиозных и вдохновенных творениях Стэна Фреберга[3] на тему шоколадок «Марс». – Вшивая метафора, – пробормотала она. – Йоменская служба крысы… йоменами в Средневековье называли молодых крестьян, и я готова поспорить, что даже такой профессионал, как ты, и то этого не знает. Принеси мне плащ и подай мой флаппер к главному входу, – кинула она оловяшке, выросшему по ее вызову в дверях библиотеки. – Я полечу к себе на виллу, – повернулась она к Джо. И добавила, когда тот ничего не ответил: – Ты бы попробовал сочинить эту речь без всяких помогалок, своими собственными словами. Тогда и не будет никаких этих «йоменских крыс», доводящих тебя до белого каления.
Только вряд ли у меня это теперь получится, подумал Джо Адамс. Чтобы самому, своими словами, без помощи механизма. Теперь я намертво к нему прикован.
Тем временем снаружи туман добился полной победы; бросив взгляд искоса, Адамс увидел, что он оккупировал уже весь мир до самых окон библиотеки. Ну что же, подумал он, зато мы избавлены от очередного яркого, сплошь из взбаламученной радиоактивной пыли заката.
– Мисс Хакетт, – объявил оловяшка, – ваш флаппер подан к главному входу, и ваш шофер типа два готов распахнуть для вас дверцу. И во спасение от вечерних миазмов один из служителей мистера Адамса будет омывать вас потоком теплого воздуха, пока вы не окажетесь внутри.
– Господи, – скривился Джо Адамс и потряс головой, словно избавляясь от наваждения.
– А ведь ты сам, дорогуша, его всему этому и научил, – заметила Коллин. – Весь его выспренний язык пришел прямиком от тебя.
– А все потому, – горько ответил Адамс, – что я люблю стиль, величие и ритуал. Броуз написал мне, письмо пришло в агентство прямо из его женевского бюро, что в этой речи должна использоваться как центральный образ именно она – белка. А что про нее скажешь, чего еще никто не говорил? Они делают запасы, они бережливы. Все мы это прекрасно знаем. Но что они делают еще такого, к чему можно было прицепить проклятую мораль?
«А к тому же, – подумал он, – все они умерли. Такого животного вида больше не существует. Но мы упорно превозносим ее добродетели, истребив предварительно ее как таковую».