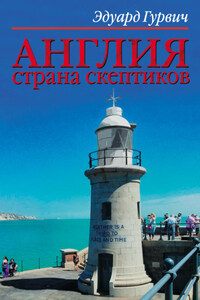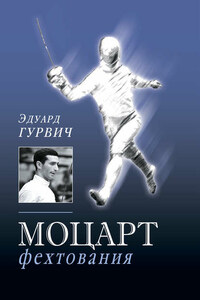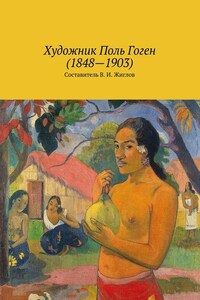Осталась отцовская рукопись. Листая ее после его смерти, зачем-то вспомнил, как в один из наездов в Лондон из Москвы заявил ему: «Я тебя никогда не буду любить! Понимать – да, понимать буду! А любить нет!» Бешено ревновал к сводной сестре. А отец ничего не замечал. Хотел нас сдружить. Повесил фотографию у себя в Студии. Мы с сестрой в одинаковых пижамах. Мне, наверно, лет десять, а ей – шесть. Мы где-то в гостях в пригороде Лондона. А рядом повесил другую. Отцу исполнилось шестьдесят пять, значит мне – восемнадцать, сестре – четырнадцать! Все примерно одного роста. Стоим с ракетками на корте в Хэмстэде. Почему из нескольких тысяч фотографий в оставшихся альбомах именно эти две висели на стене в рамках? Наверное, потому что память отца – одно, а моя – совсем другое. Он был счастлив, когда мы были вдвоем. А я мучился вопросом – зачем ему дочь? Разве меня ему недостаточно? И не смягчали мою боль наши путешествия вдвоем в Испанию, на Мальту, во Францию… В этих поездках никакой сестры не полагалось. Были только он и я. Музей Прадо в Мадриде, Лувр – в Париже, гостиницы, пляжи, бассейны, теннисные корты. Он приучал меня к большой литературе, театру, балету. Сестра, я знаю наверняка, никогда и никуда с ним не выезжала. И как я мог сказать, что никогда не буду любить его? Как мог не понимать, каких усилий ему стоила эмиграция. Он пытался осилить язык и не осилил, но сделал невозможное – стал востребованным преподавателем русской словесности. Хотел построить свой дом и не построил, но обзавелся в Лондоне таким окружением, какое у меня вряд ли будет. По его собственному признанию, он был плохим евреем, в синагогу не ходил, иврит не знал, но сделал нечто такое, что я ощутил себя не русским, а евреем, совершил обряд гиюра, читаю тору, бываю в синагоге, изучаю иврит… Да, он нарцисс, ему нравилось представлять себя добрым и рассудительным, красивым и респектабельным, щедрым и мудрым. Он с уважением отзывался о собратьях по перу. Но, ухмыляясь, нередко поправлял себя – мол, люди нехорошие. Хотя, по-моему, для отца «…единственное важно – хорошо написана книга или плохо, а что до того, прохвост ли автор или добродетельный симпатяга, – то это совершенно не интересно». Набоковскую цитату он хотел поставить эпиграфом к «Роману Графомана». Но в последнем варианте рукописи зачеркнул и заменил пушкинской.
Месяц назад редактор отвергла первую главу. Спорить не стал. Теперь же приговор докторов выворачивал разум. Вышагивая по песчаному пляжу, размышлял вовсе не о конце. Медицина с таким диагнозом может затянуть агонию на десяток лет. Но сколько времени остается для активной творческой жизни? Как долго сможет, отыскав мысль, держать ее, играть с ней, точить, стирать, возвращать обновленной? Стероиды, инъекции, химия, облучение наверняка разрушат способность творить. Никто не знает, как возникает таинственное чувство художника. А как исчезает – знакомо каждому. Разум подводит творца к дверям, но может и увести. И не обязательно по причине болезни.
…Пляж рядом с гостиницей. Из окна номера на двенадцатом этаже видно, как с отливом крошечный треугольник мыса разрастается, превращаясь в золотистую полосу почти с километр. Отступающее море обнажает песчаное дно. Только здесь, в Фолкстоне. В отличие от сплошь усыпанного галькой побережья в одну сторону – к Хейстингсу, и в другую – к Дувру. Ступать босиком по влажному песку вдоль своих же следов в безлюдный утренний час – несказанное удовольствие. Шагая взад-вперед от гряды камней до затона с яхтами, катерами, рыбацкими шхунами, подумал о новом романе Англичанина [1] «Ночь в огне». Почему-то автор поначалу отрицал, что импульсом сочинения стала продажа им собственного дома. Понятно, документалистикой нивелируется дар Писателя. Ну, а романы Набокова «Другие берега» и «Ада». Биографические факты мастер так зарывал, что не сразу раскопаешь. А толстовская повесть «Смерть Ивана Ильича». Симптомы взяты из истории болезни, которые пишут доктора. Художник подмечает мнительность обреченного, ночные бдения Ивана Ильича наедине с нарастающими болями. Никого не трогает его смертельный диагноз. Все озабочены безденежьем, грядущей свадьбой дочери, долгами. Жутковатые ощущения умирающего.
Шагая по пустынному пляжу, не заметил, как начался прилив. Песчаная полоса на глазах уходит под воду. Пора возвращаться в гостиницу. Безобразное здание портит приморский пейзаж. Десятиэтажная коробка-параллелепипед, надстроенная позже этажами-кубами для премьер-номеров. И такое среди построек прошлых веков, с крышами самых неожиданных конфигураций, башенками, соборами, церковными шпилями.