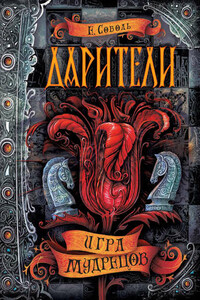Женщина лежала на кушетке в правом холодном углу блока интенсивной терапии. Ее опухшие вывернутые руки неестественно изогнулись, несогласно замерли над голубым дерматином кушетки, точно женщина долгое время отмахивалась ими от стаи стервятников, но, так и не справившись, поддалась, смирилась. Уставшие от борьбы черные пальцы все еще подрагивали, торчали безобразными буграми крупные локтевые суставы. Обиженно молчали погасшие аппараты. По коже ног ползали зеленые пятна, похожие на лишайники. Крупные трещины на восковых пятках все еще грустили о теплой земле, о первых всходах, не сумев до конца избавиться от тонких волосков трав и песчинок на них. Голова запрокинулась, рот приоткрылся, а глазные впадины кроваво зияли в равнодушный ко всему кусок белой плитки с отколотым краем. Сбившиеся волосы, слегка тронутые сединой, налипли на вспотевший лоб. Несколько еле заметных родинок взбегали на ввалившийся висок, недавно вздувшаяся на нем синяя лента вены мгновенно теряла форму, превращаясь в плоскую нарисованную линию. Это мог бы заметить каждый, если бы скомканная простынь не была брошена на лицо женщины. Грудь, обнаженная, неприкрытая, казалась еще живой, горячей, и если коснуться ее, требовательно потянуть, то из сосков, совершенно розовых, непременно брызнут, омоют собой и пол и стены, стерильные и оттого такие запятнано-бессовестные, кровь и молоко.
– Теперь грузим? – вопрос раздался со стороны блока, где запертые массивные двери хранили тело умершей от глаз еще живых.
– Теперь да! – ответил звонкий девичий голос, заглушая своей весенней, почти птичьей трелью, тихие шаги на лестнице за стеной, за темной нишей, за совсем другими дверями, умело спрятанными от любопытных двумя высокими металлическими шкафами с надписью «инвентарь».
Итак, я нашла в себе силы и смелость рассказать эту историю, пока отголоски ее еще живы, а в моем сознании не померкли дикие картины увиденного. Все началось в феврале этого года, ровно за три месяца до событий, о которых я хочу поведать. Попробую сделать это как можно красочнее, во всех подробностях, не упустить ни одной детали, ибо эти детали имеют первостепенное значение.
Меня зовут Алиса. Не так давно я работала журналистом в захудалой местной газетенке, редакция которой размещалась, впрочем, и сейчас продолжает размещаться, в центре города, на улице, где вековым, влажным напоминанием старины, облокотилось о бордюры наше вросшее в городскую, непривычную для него жизнь, здание. Улица всегда, сколько я себя на ней помню, была глухой и всеми позабытой. Зимой ее заметало непроходимым снегом, а летом она погружалась во тьму, создаваемую кронами старых каштанов. Наше здание, когда-то признанное памятником архитектуры, густо сорило штукатуркой на потрескавшийся от времени тротуар, вздыбившийся то там, то здесь усилиями корневых жил. Мы размещались на первом, загаженном кошками, этаже. И вывеска наша с робким названием «Крестьянская Зоренька», совершенно ничем не примечательная, могла лишь внимательному прохожему обстоятельно намекнуть, что дело наше весьма значимое, потому как освещаем мы количество надоев, произведенной сельскохозяйственной техники, посевных угодий, и территорий, отведенных для выпаса крупнорогатого скота. Никаким другим событиям наша газетенка внимания больше не уделяла. Хотя случилось одно некрасивое дело, после чего и началась вся эта странная история, о которой я взялась рассказать.
Наш главный редактор Аркадий Илларионович, за глаза – Крокодил, двадцать лет мечтал сделать «Зореньку» чуть ли не самым популярным изданием в городе, а может, и во всей области. Однако в силу своей подозрительности и страха пропустить в печать что-нибудь лишнее так и не решался. А лишним было все, что не касалось сельской жизни. Придя по распределению в «Зореньку» после университета, я планировала перевернуть ее с ног на голову и даже опусы на злободневные темы пописывала, неизменно в конце статьи знаменуя свое творение тремя заглавными буквами А. Л. И. – производное от Алисы. Каждый должен был найти в этом что-то для себя. Один – инициалы, другой – мужское имя, теперь уже такое популярное в нашем многоконфессиональном городе. При любой возможности, особенно если это касалось горячих новостей или эксклюзива, я старалась скрывать свое женское происхождение. Ибо еще со студенческой скамьи пришла к выводу: мужские излияния читатель уважает больше, нежели дамские, слезливые. Однако всем моим ночным стараниям с карандашом и скомканными бумажными листами свет удавалось увидеть не так уж часто. Вредный Крокодил качал головой и, причмокнув, говорил:
– Вот вы, Алиса Павловна, умный человек, светлая голова, а все же никак не хотите понять: это может навредить не только нашей деловой репутации, но и вам лично. Посему давайте оставим ваше журналистское расследование пока, акцентирую, пока, без читательского внимания. Пусть факты возымеют, так сказать, отыщут свою силу в долгом ящике нашей редакции до наступления лучших времен.
Времена менялись, но все никак лучшими не становились. А несколько месяцев назад дела нашей «Зореньки» пошли из рук вон плохо. И подозрительный ко всему Крокодил сдался, хотя дело было весьма рискованное. Тогда по многим причинам мне оно показалось высосанным из пальца, а вот Крокодил поверил и дал добро. Риск получился оправданным. «Зоренька» забралась в эпицентр общественного скандала, ее невозможно было достать ни в одном киоске города. Только после всего этого шума журналист А. Л. И. и еще одни коллега-правдобороец оказались уволенными Крокодилом легким росчерком позолоченной ручки, извлекаемой из черного бархатного футляра по особым случаям.
Был обед, у нас в редакции он длится с часу до двух. Мы с моим однокурсником, а заодно и коллегой, Толиком решили подкрепиться бутербродами с кофе. Толика я любила по-дружески, даже скорее по-матерински, но как корреспондент А. Л. И. не уважала. Толик был труслив. Не сразу, потом, когда приходилось нести ответственность за всякое написанное слово. Толик, не думая, брался за скользкие темы, но после, когда понимал, что острыми зубками своими ухватился за ноющее живое, впадал в истерию, без особых усилий мог броситься в бега. Однако, несмотря на повышенную осторожность, Толик слыл прирожденным гением. Небеса наделили его великим даром: он легко писал, слово текло из него ручьем, разливалось, искрилось, получало объем и форму, убедительно вливалось в душу любому напрямую столкнувшемуся с ним. Даже если читатель мельком, от скуки просматривал «Зореньку», всегда останавливался на статьях, почти сказочных, о сельскохозяйственной технике и бычках-производителях, подготовленных ни кем иным, как Толиком. Этому я всегда завидовала. По-доброму. Из Толика получился бы отличный фантаст, но только никак не журналист. Человеком он был мягким, впечатлительным и очень ранимым. Поэтому так легко, не думая о последствиях, воодушевился историей женщины, постучавшейся к нам в редакцию именно в обеденное время. Она была заплакана, прямо с порога начала нести вздор о каких-то органах, неучтенных трупах и погибшей дочери, ставшей жертвой медицинского сговора. Нам бы поддержать тогда ее добрым участливым словом и аккуратно проводить из здания, но добродушный Толик пододвинул кресло под самые ее ватные колени и принялся заинтересованно слушать, дожевывая второй бутерброд всухомятку.