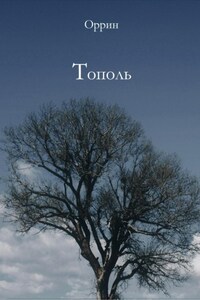Сказка в трех лунах
ЛИЦА
(все имена кроме русскоязычных прозвищ читаются с ударением на первый слог):
Арфир – чтец
Бран – верховный лекарь
Адерин – жена верховного лекаря
Двирид – стряпчий, брат Арфира-чтеца
Нерис – жена стряпчего Двирида
Амифон – крестьянин
Майди – дочь крестьянина Амифона
Амлоф – оружейник, отец Арфира и Двирида
Анвин – оружейник, знакомый Нерис
Байфан – кожевник
Бедивир – лучник, старший страж ворот Утеса
Берфиг – глашатай (герольд), отец Адерин
Брохвел – владыка (правитель) Утеса
Вихан – травник (аптекарь)
Гваин – сумасшедший из северной страны
Глин (Южанин) – чтец, служивший на Утесе до Арфира
Дилан – купец, владелец судоходства
Идвал – советник владыки по духовным вопросам
Килох – хранитель порядка, советник владыки
Кай – древний южный захватчик, мореплаватель
Кледвин – старший слуга в доме Нерис и Двирида
Хидрев – прачка в доме Нерис и Двирида, жена старшего слуги Кледвина
Конан – трактирщик
Корин – меняла, ростовщик
Ллуйд – разбойник
Мадок – хозяин Дома Игр
Мирвин – отшельник, лесничий, садовник
Тахвед – слепоглухая старуха
Толма́ч – поводырь и переводчик Тахвед
Младший – сын Толмача
Тень – слепая, служительница при купальне
Эйнин – кузнец
Аиф – сын кузнеца, вор
Айлир – дочь кузнеца
Помощник Мадока
Смотритель – обитатель Серых слобод
Старший всадник
Персонажи сказаний Арфира, стражи, скоморохи, слуги, соглядатаи, разбойники, советники
Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.
Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций
Цвета пепла и серебра.
Марина Цветаева
Двое листьев промелькнули назад вдоль дороги. Я остановился, следя за тем, как эти золоченые беглецы, рано освободившиеся от родного пристанища, отправляются неведомой их собратьям тропой.
Осень пришла по предписаниям календаря. Уже в первых числах холода и дожди обосновались в землях Кимра, вселяя в сердца его жителей грусть по теплу, лучезарная полоска которого увядала по мере затворения дверей летней горницы.1 И тем не менее младое солнечное утро, затолкавшее промозглую темень обратно в ее колдовской сундук, возвращало расположение к наступившему времени года. Лишь буян-ветер не желал сопутствовать песчинкам2 умиротворения, будто недовольствуясь моим внезапным привалом. Я вынул из котомки вторую фибулу3 и скрепил ей полы плаща. Мой взгляд все еще искал янтарных странников, хотя они уже пропали безвозвратно.
Рядом по-прежнему был лес, единственный старик, имеющий власть хранить свежесть юности. Какой уже десяток верст этот безмолвный попутчик готовил мне ночлег под пышными кронами ив, угощал дарами черники и калины, вдыхал волю неколебимой крепью дубов и горделивой заставой ясеней, трогал сердце хрупкостью берез и настораживал хитросплетением вязов? Как о многом он позволил поразмыслить в шуршании ходьбы и истоме привалов, свисте дуновений и шепоте капели? После блужданий по пустошам вересковых холмов я ненадолго обрел под зеленым покрывалом драгоценное уединение взамен одиночества, и, наверное, просто наслаждался его последними крупицами, падающими в незыблемую перемычку между грядущим и отжившим.
На дороге возникла повозка. Вернее, поначалу до меня донеслось лишь неторопливое постукивание ног скотинки, но не стоило выбиваться в прорицатели, чтобы разгадать за ним крестьянскую арбу. И в самом деле, не успел я глотнуть воды из походного меха4, как в трех шагах от меня остановилась на совесть сбитая телега, возничий которой приподнялся и приветливо махнул мне.
– В город, так, что ль? – полюбопытствовал крестьянин.
– Вы не ошиблись, – кивнул я.
– Залезай, топать-то притомился, видать, – радушно воззвал возница.
Неторопливо, но без промедления я забрался внутрь. Мне не составило бы труда продолжить пеший путь, но все же так я выигрывал время. Кроме того, простые люди не понимают вежливых отказов от выгодных, на их взгляд, предложений. Иногда они правы.
Быстро выяснилось, что в телеге мы не одни: в углу сидела девочка лет семи. Ее сельские пшеничные волосы и правильные черты лица дополнялись кривым шрамом на щеке. Я заметил между ней и возничим неуловимое сходство помимо родственного, но поначалу не смог его объяснить.
– Дочурка, – пояснил крестьянин, – Майди, звать. А я сам Амифон5 из земледельцев.
– Арфир-чтец к вашим услугам, – представился я.
– Чтец? Вон оно как, значить? Не часто чтецов-то у нас увидишь. Правда, был там у городских один. Вы, стало быть, заместо будете?
– Почему же вместо?
– Так скопытился. Уж полгодочка как.
– Отчего?
– А пес разберет. Поди, от серки. Там, говорят, хатами от нее мрут, – земледелец прищурился. – А коли от лекарей нету проку, в пору и за чтецом посылать.
Амифон подмигнул мне, то ли насмехаясь, то ли неумело пытаясь расположить. У крестьян порою странные представления о знакомстве с гостями их телег. Тем не менее, слова земледельца заняли меня, конечно же, не рассуждениями о проке, а о том, что он назвал серкой. Дорогой мне уже довелось слышать от встречных про это бедствие, но молва, из которой я черпал о нем сведения, оказывалась весьма противоречивой. Одни поговаривали, что недуг этот сопровождается набуханием на теле серых язв и яростной лихорадкой, испепеляющей тела, словно лучину, в несколько дней. Подобное мнение главенствовало, совпадало оно и с высказыванием моего собеседника. Однако иные утверждали, будто болезнь протекала с вполне терпимым жаром и заканчивалась выздоровлением. Лишь кожа пораженного оставалась серой, а взор помутневшим.
Тем временем Амифон смолк. Это слегка насторожило меня. Обычно с долгоязычным деревенским людом беседовать несложно. Они щедро плескают слова из-под коромысла, а ты преспокойно думаешь о своем, не забывая временами поддакивать или изредка брызгая порой дурацкими вставками с неизменно понимающим видом. С этим человеком дело обстояло иначе. Он красочно и размашисто описал разгар урожайной страды, свою хату, изъяны соседских хозяйств, причины поездки в город (ярмарка, где он намеревался выменять пару бочонков браги на новые упряжь, плуг и платьице для дочери), но это было не все. Сколько уже десятков, а быть может, и сотен ртов, вот так же гоготали и мололи рядом со мной зерна будничных пересудов прежде чем собраться с мужеством и перейти к главному. Теперь мне становилось ясным: насмешки над моим делом выступали лишь неуклюжим прикрытием стеснения, а неожиданная заминка выдавала надвигающуюся откровенность. Кроме того, лицо.
Пожалуй, впервые я толком взглянул на своего возницу. Плечи невысокого ростом, коренастого мужичка, покрывал простецкий клетчатый плащ, латанный бессчетное количество раз грубыми размашистыми стежками и распахнутый на широкой груди, затянутой холщовой рубахой. Дубленые и крепкие кисти рук были, как и положено, закатного цвета от богатого общения с землей, вожжами и оралом. Лицо светлое, но как бы приплюснутое, украшенное бороздами морщин и густыми завязями нижних век простиралось полотном, впитавшим в себя дни труда и ночи горя. Об этом же свидетельствовали и пшеничные, с ранней проседью волосы. Дымка глаз-колодцев уводила в недра прошлого, и губы не тонкие от природы, но сжатые под грузом лет, нерешительно подрагивали, готовясь приоткрыть потемки души, по сути, первому встречному.