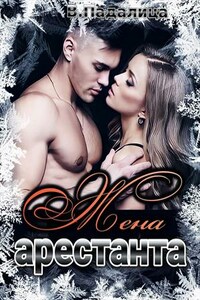– Ты это, – сказал Трунь, подходя. – Привет, что ли.
– Привет, – сипло ответила нежить.
Вблизи, если приглядеться, конечно, плакуша была всё-таки страшноватая. Серая, с сильно вытянутым лицом, огромными беспросветно-тёмными глазами и горестно сложенным ртом. Очень худая, укутанная в грязный саван, да ещё с огромными когтями на руках и босых ногах. Одно слово – нежить!
– Извини, если потревожил, – сказал Трунь. – Я поговорить хотел…
– Что? – удивилась плакуша. – Ты, что ли, не боишься меня? Я вестница смерти, между прочим.
Последнее прозвучало почти как хвастовство. Трунь бы даже улыбнулся, если б обстановка была менее напряжённой.
– Боюсь, конечно, – с трудом сглотнув, ответил парень, – Но... я хочу поговорить. Ты... Вот я не знаю, как появляются плакуши. Ты мне можешь рассказать?
– А зачем тебе?
– Ну это… я тут решил покончить с менестрельством, вот думаю в ученики к некроманту податься. Ну и знаешь, знания какие-нибудь там лишними не будут.
Плакуша подумала, грызя грязный коготь на мизинце руки, а потом сказала:
– Одному из тех, кто в этом доме, скоро придёт пора умереть. И мне надо выть по нему, упреждая людей, что им пора проститься с этим человеком. Отдать долги, простить, если есть что прощать, и всё такое. Вечно теряю памятку. Думаю, оставила её в гробу Трояны Злотской, я вчера там плакала.
Трунь вежливо внимал.
– Плакуши – это женщины, которые были при жизни плакальщицами. Знаешь, нанимают иногда богатые, чтобы поплакали над их покойниками? Пожалостливее да погромче. Некоторые даже слёзы копят в бутылочку.
– И что, покойникам это здорово помогает? – спросил Трундеваль.
Он что-то такое, конечно, слышал, но в Шмутцваальде никто слёз напоказ не копил, да и покойников люди предпочитали оплакивать самолично, без посторонней помощи. Там верили, что душа человека жива и здорова, пока её помнят, а не пока по ней плачут. А помнить… помнить ведь и с улыбкой можно.
– Да шут кладбищный их знает, – неловко пожала плечом плакуша. – Думаешь, нашей сестре докладывают? А только души людей всё равно не здесь. Если, конечно, упокоились они правильно и честь по чести. А вот по плакушам никто не плачет. Умерли и умерли, велика беда? Вот скажи, где тут справедливость, а?
– Тебя хоть как зовут? Я вот Тру…
– Ууууыыыы! – коротко и громко взвыла плакуша. – Нежити своё имя не говори, дурень! Имя с душою связано, потянешь за него – всю душу украсть можно!
Трунь поёжился.
– Спасибо, – сказал он. – Я не знал.
Плакуша спрыгнула с забора и обошла менестреля кругом.
– Странный ты. Тебя что, мой вой не берёт?
Трундеваль горько усмехнулся.
– Он у тебя в сравнении с моим пением довольно мелодичный. Я бы даже послушал, как ты поёшь.
Нежить удивилась так, что стала почти прозрачной. Только лицо её сделалось отчётливым, словно его кто-то нарисовал чернилами на сером листе, и глаза вдруг заблестели, как две звезды.
– А ведь когда-то я пела, – сказала она.
– Угу, я тоже, – вздохнул Трунь. – А теперь у меня даже гитары нет! Вот умру – тоже буду плакушей. Тогда-то уж не отвертятся, дослушают меня до конца.
Плакуша навернула новый круг, оглядывая Трундеваля, а затем робко спросила:
– Что, настолько всё плохо?
– Хочешь убедиться, что ли? Тогда давай подальше от дома, чего женщин зря пугать?
Плакуша хихикнула, прикрыв рот ладошкой, словно смущённая девица, и стала почти материальной. Во всяком случае сквозь неё уже не просвечивала кладбищенская ограда. Трунь убедился, что она страшна до чёртиков. Или хуже. Даже угроза попасться на зуб умертвию была сейчас для него менее реальной.
Но в доме сидели две напуганные женщины. Во всяком случае, Трунь изо всех сил надеялся, что они там сидят. А что напуганные, так это уж наверняка. Ведь даже Рималь всплакнула, а она была храбрее, чем он, Трундеваль Фодросский.
– Давай так. Кто кого пением напугает? Если я тебя – то ты с кладбища уйдёшь и никогда сюда не вернёшься. Люди и без вестницы прекрасно понимают, что смерть близка. А бабуля пусть поживёт ещё чуток, сколько уж ей там отмеряно. Даже если и три дня, пускай проведёт их спокойно. Хорошо?
– Хорошо, – всхлипнула плакуша, внезапно заливаясь слезами. – А если я тебя перепою?
– Ну тогда я через три дня умру и будем плакушествовать вместе, – пожал плечами Трунь. – А старушка, опять же, докряхтит спокойно ровно столько, сколько ей суждено кряхтеть. Идёт?
– Ещё есть твоя девушка, – вдруг совершенно спокойно сказала нежить. – А вдруг я не по старушке вою?
– Вот про девушку ты вообще не думай даже, – рассердился Трундеваль. – Я про неё даже сам едва смею думать! Ей ещё жить и жить, между прочим. Пошли! Вон там, кажется, отличное место, чтобы никому не мешать спать своим состязанием.
Плакуша зловеще хохотнула.
– Ты мне начинаешь нравиться, – сказала она. – Из тебя получится хороший некромант!
Ещё сутки назад менестрель бы гордо заявил, что лучше быть худшим на свете певцом, чем лучшим в мире некромантом. Но сейчас он уже всерьёз подумывал передумать.
Ночь сгущала краски на небесной палитре, окно дома, окрашенное в жёлтый светом свечи, становилось всё дальше – Трунь нарочно оглядывался, чтобы оценить расстояние! – и где-то вдалеке покрикивала совка. Менестрель тащил тяжеленное ведро с наспех насыпанной туда кладбищенской землёй.
Так, с ведром, он брёл почти наощупь через тёмное кладбище, спотыкаясь об оградки и шарахаясь от могильных плит, а плакуша брела рядом, подобрав саван выше костлявых колен.
К облегчению менестреля, больше поблизости никто не ходил. Неприятно было бы обнаружить толстяка Мотия в паре шагов от себя. О том, что умертвие может ошиваться близ старухиной развалюшки и пытаться достать оттуда Рималь, Трунь старался не думать. Он мог хотя бы надеяться, что они маги, у них получится защититься, несмотря на юный возраст одной и крайнюю дряхлость второй.
Заросшей тропой, шедшей от кладбища через подлесок, они выбрались на полянку, мокрую от ночной росы. Плакуша шла по узенькой стёжке, обозначенной кладбищенской землёй, которую Трунь сыпал из ведра тонкой струйкой. На полянке он поставил в траву пустое ведро, вытер вспотевший лоб и понял, что дрожит мелкой противной дрожью.
– Ну что, – сказала плакуша, – мы отошли достаточно далеко! Кто начнёт?
– Дамы вперёд, – поспешно ответил Трунь. – И это! Давай-ка условие!
– Какое ещё условие? – удивилась нежить.
- А такое! Я тебя выслушаю до конца твоей песни. И ты меня тоже.
Плакуша подпрыгнула на месте, а потом приблизила своё жуткое лицо к лицу Труня и хлопнула ресницами. Длинными, красивыми. На менестреля пахнуло плесенью и тленом, но, кажется, в доме старухи он притерпелся к этому аромату и лишь вздохнул.
– Тебе уж признаюсь, – сказал он. – Четыре года назад я пел во дворе своего дома в Шмутцваальде. Репетировал, упражнялся. Помню, хороший день был: ясный такой, погожий, ранняя осень, воздух так и звенит… Свиньи за оградой ещё визжали громко, так вот пришлось петь так, чтобы хоть себя слышать. Я пел! А тут ведьма. Она в соседнем доме у подруги гостила, как я потом узнал. Выскочила, глаза огромные, злые. Я аж слова забыл. И как прокляла меня…