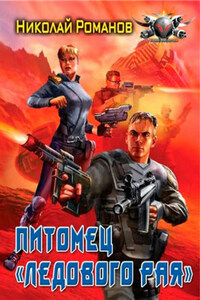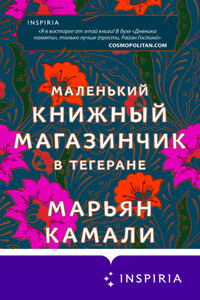– Какое сегодня удивительное небо! – сказала мама. – Жалко, папа не смог с нами выбраться!
Миркин оторвал взгляд от песчаной дорожки, по которой они двигались (в песке оставались круглые ямки – следы маминых каблуков), поднял голову и посмотрел – сначала на маму, а потом еще выше. Ничего удивительного там не было. Голубое и белое, небо и облака, и точки летящих куда-то птиц…
А мама продолжала говорить: о том, что когда папа вернется вечером со службы, они пойдут купаться на речку Широкую; о том, что всего через два года Миркин пойдет в школу и как хорошо, что у соседа, старшего лейтенанта Спиридонова дяди Толи, Женечка, дочка – Миркинова ровесница, и раз их будет двое, первоклашек, то школьному глайдеру поневоле придется залетать на нашу улицу; о том, что завтра суббота и не папина очередь нести по графику боевое дежурство и можно будет слетать в город Сосновоборск в детский парк культуры и отдыха…
Миркин вспомнил, что еще совсем недавно он иначе представлял себе, как именно папа несет по графику боевое дежурство. График был очень похож на замощенный плиткой уличный тротуар, а боевое дежурство – на черный чемоданчик, с которым папа ходил на службу, и нес он это боевое дежурство в вытянутой правой руке, печатая строевой шаг, а когда надо было поздороваться с кем-то из встречных друзей, то перекладывал в левую…
Теперь, правда, Миркин знал, что боевое дежурство – вовсе не чемоданчик, и несут его не в руке. Нести боевое дежурство означает сидеть наготове возле огромных пушек, которые защищают всю планету от врага, чтобы успеть в него выстрелить, потому что если не сидеть возле них, то надо будет к ним бежать, а пока бежишь, враг может сделать свое черное дело. Он очень быстрый и коварный, враг этот… Потому офицеры и солдаты и сидят на боевом дежурстве. Как на диване в гостиной… А называются они сложным словом артиллеристы!
– Там, помимо карусели, есть качели и разные другие аттракционы, – сказала мама. – Мы покачаемся, покатаемся, постреляем в тире. Помнишь, как в прошлый раз катались на карусели?
Миркин помнил. Такое трудно забыть. Как про боевое дежурство… Под ним была настоящая лошадь – правда, не живая, – и мимо проносились и мама, и папа, и другие люди, и их дети, боящиеся сесть на каруселю. А когда катание закончилось, и он спустился на землю, папа улыбнулся и сказал: «У тебя хороший вестибулярный аппарат, Миркин»…
– У меня холосый вестибулялный аппалат, плавда, мама? – проговорил Миркин.
– Да, – мама погладила его по голове. – У тебя очень хороший вестибулярный аппарат.
Миркин снова посмотрел на нее. Мама у него была красивая, не то что тетя Валя Спиридонова, про которую сам дядя Толя, пьяный, как-то сказал: «Мой любимый крокодил»… Хотя на крокодила тетя Валя совсем была не похожа – она была не зеленая, у нее были человеческие зубы и не было хвоста…
– А что такое вестибулялный аппалат, мама?
– Это… – Мама подняла правую руку, пошевелила пальцами. Будто на карусели лошадка ножками. – Это у человека есть такое свойство… – Она опять пошевелила пальцами-ножками.
И тут за спиной завыла сирена. Мама резко остановилась и повернулась в сторону городка. Сирена продолжала выть, голос ее становился все громче и пронзительнее. Миркину сделалось страшно, и он схватился за мамину юбку.
– Внимание! – сказал кто-то. – Внимание, боевая тревога!
Миркин не сразу сообразил, что это проснулся браслет на маминой левой руке. Когда придет время идти в школу, такая штучка появится и у него, Миркина…
– Личному составу прибыть на места согласно боевого расписания, – продолжал браслет. – Населению военного городка – немедленно в укрытия!
Мама схватила Миркина на руки.
– Дьявольщина! – крикнула она. – Слишком далеко бежать! Неужели проспали, сволочи?
Покрутившись на месте, она все-таки побежала, а Миркин, подпрыгивая у нее на руках, снова смотрел в небо.
Небо было все то же – голубое с белым, и по нему летали точки-птицы, – но Миркину казалось, что там, в голубой глубине, за белыми облаками, что-то есть, там скрывается коварный враг, которого Миркин представлял себе в виде плохого дядьки, безусого, нестриженого и в нательном белье, потому что дядька, одетый в мундир или китель, никак не мог быть плохим. Тем более если у него усы, как у папы или дяди Толи Спиридонова…
Вдали что-то грозно и громко загудело, и это гудение заставило маму ускорить шаги. Теперь они бежали не по дорожке, а прямо по траве. Шея у мамы стала мокрая-мокрая, а платье – сырое, и Миркин понял, что ей тяжело, и хотел уже сказать: «Мама, давай я сам побегу» – но тут гудение оборвалось, и что-то тяжело-тяжело ухнуло, и земля содрогнулась под ними, и мама споткнулась, каким-то образом умудрившись упасть так, что Миркину ничуть не было больно. Хотя, ему и не могло быть больно, потому что под ним была мамина грудь, а она никогда не делала больно. Потом мама сняла его с себя, положила на землю рядом и легла сверху, но так, чтобы не придавить.
И снова ухнуло, и снова содрогнулась земля.
И так несколько раз. Миркин умел считать до пяти, но ухало больше.
Потом все затихло.
– Ты лежи, – сказала мама, освобождая Миркина. – Хоть ударная волна и мимо идет, но лучше лежать.
И он послушался, только перевернулся на спину.
В небе сверкали серебряные звездочки, они были красивые, и звездочек было так много, что их бы не пересчитал и папа…
– Класивые, – сказал Миркин.
– Что? – ответила мама не своим голосом. Она сидела рядом с Миркиным и смотрела на браслет.
– Звездочки класивые. В небе.
Мама подняла голову. Лицо ее стало грустным-грустным.
– Это защитное поле врага. Боже, как близко…
– И папина пушка не может попасть в него?
– Да!.. Черт, что же делать?
– А ты позвони папе, – посоветовал Миркин.
– Не могу. Боевая тревога. Доступ со штатских говорильников к военным заблокирован. Что же делать?
Снова тяжело ухнуло, так что содрогнулась земля, и опять в небе засверкали серебряные звездочки.
– Надо бежать домой, – сказала мама. – Туфли прочь! Вставай, Остромир! Тут мы больше все равно ничего не вылежим.
Мама поднялась на ноги, скинула туфли, отряхнула платье и протянула к Миркину руку, но тут на месте звездочек зажегся яркий огонь, и устремился к Миркину, и он зажмурился. А потом бабахнуло, и земля содрогнулась так, что мама упала прямо на Миркина, больно прижав его к траве.
– Лежи, не шевелись!
– Ты же меня задавишь, – пропыхтел Миркин.
– Не задавлю.
И снова бабахнуло. И опять, и опять, и вот уже над Миркиным и мамой пронесся порыв горячего ветра…
– Остронаведенным бьют, – сказала мама, таким голосом, что Миркину захотелось заплакать. – Не по площадям…
И Миркин заплакал.
Потом он помнил только отдельные картины.