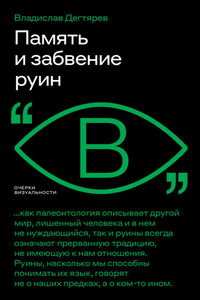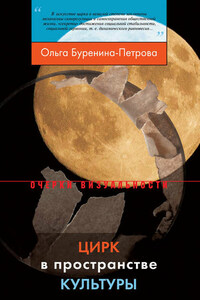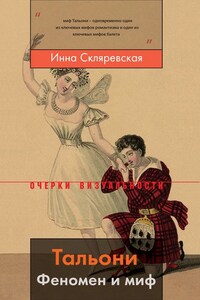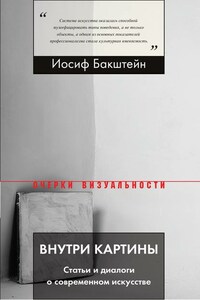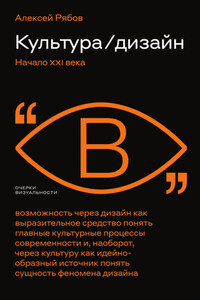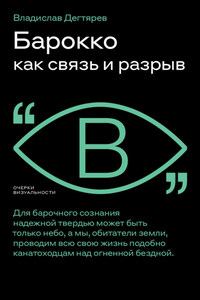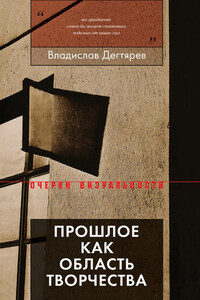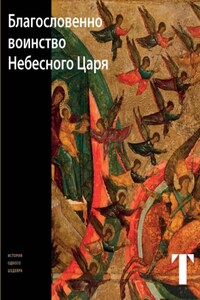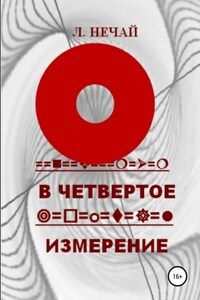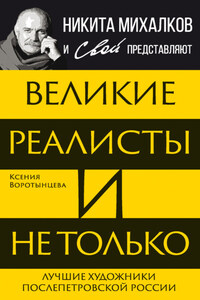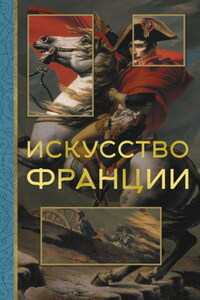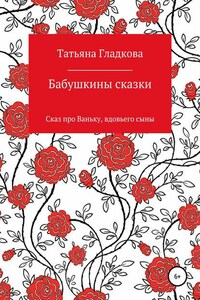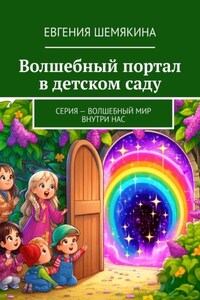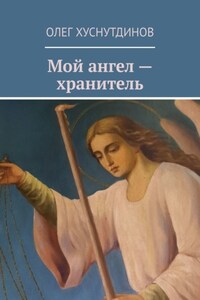УДК 930.85(4)«15/18»
ББК 63.3(4)5-7
Д26
Редактор серии Г. Ельшевская
Владислав Дегтярев
Память и забвение руин / Владислав Дегтярев. – М.: Новое литературное обозрение, 2023. – (Серия «Очерки визуальности»).
Руины сопровождали человека на протяжении всей его истории, но он не всегда их замечал: те, кто не интересовался прошедшим, бесхитростно разбирали остатки старых построек для сооружения новых. В таком небрежении руины пребывали очень долго, пока человек не пришел к выводу, что они, будучи носителями исторической и культурной информации, являются важной частью его национальной идентичности. В своей книге Владислав Дегтярев предлагает воспользоваться руинами как философическим инструментом, своего рода волшебными очками, позволяющими яснее и отчетливее рассмотреть некоторые мыслительные установки и стереотипы европейской культуры Нового времени. Руины всегда оказываются в промежутке, всегда выпадают из классификаций, но именно поэтому они способны помочь нам подвергнуть анализу различия между прошлым и настоящим, природным и культурным, подлинным и поддельным, целым и фрагментарным, правильным и аномальным. Владислав Дегтярев – культуролог и историк искусства, старший научный сотрудник РГПУ имени А. И. Герцена.
ISBN 978-5-4448-2342-8
© В. Дегтярев, 2023
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
Этот текст вырос из отдельных размышлений, пунктиром намеченных в моей книге «Барокко как связь и разрыв» (М.: Новое литературное обозрение, 2021). Он представляет собой эссе, не пытающееся скрыть особенностей жанра – принципиальной неполноты и глубоко личного характера написанного. Однако личное и индивидуальное вовсе не должны быть синонимами чего-то необязательного, скорее наоборот. Впрочем, книга не об этом.
Тогда о чем же? В первую очередь о вещах и явлениях, ускользающих из наших классификаций или преспокойно расположившихся между категориями, границы которых представляются нам незыблемыми. Руины – одно из таких явлений, и сквозь оптику руин можно увидеть вокруг себя много нового и интересного.
Начать нужно, как всегда, издалека. Английский философ и историк идей Артур Лавджой в своей книге «Великая цепь бытия» (1936), к которой я неоднократно буду обращаться, сформулировал принцип, названный им принципом изобилия (principle of plenitude)1. Точная цитата будет приведена ниже, сейчас же, как мне кажется, уместнее пересказать положения Лавджоя своими словами.
Согласно Лавджою, мыслители XVII–XVIII веков считали, что в мироздании (если, конечно, это приличное, подобающим образом устроенное мироздание) должны быть представлены все переходы между такими категориями, как живое и неживое, человеческое и животное, животное и растительное и т. д. Чем мир лучше и совершеннее, тем плотнее в нем заполнены те лакуны, которые мы наивно полагаем обязательными.
«Истинные философы, – замечал в 1747 году Жюльен Офре де Ламетри, – согласятся со мной, что переход от животных к человеку не очень резок»2. Почему же в таком случае мы не видим вокруг себя плавных переходов между животными и людьми? Ответить на этот вопрос можно по-разному. Например, сославшись на то, что мы плохо ищем. Тогда, поискав хорошо, мы обязательно найдем и русалок, и людей с песьими головами, заполняющих этот разрыв. Можно поступить иначе – и ввести в модель совершенного мироздания фактор времени: тогда выяснится, что промежуточные формы попросту вымерли. Еще более утонченное решение предполагает одновременное существование множества населенных миров, так что искомая полнота бытия реализуется не в каком-то одном из них, а во всех сразу.
Принцип изобилия – в числе прочих интересных вещей – порождает разнообразных чудовищ. Джеймс Элкинс иллюстрирует этот принцип описанием легендарного существа под названием «баромец» или «татарский овен», совмещающего черты животного и растения3. Баромец, которого путешественники искали в приволжских степях до конца XVIII века, был обязан своей известностью плоду в виде ягненка, вырастающему на вертикальном стебле, расположенном там, где у животных пуповина.
Когда он вырастал, – меланхолично рассказывает Элкинс, – стебель удлинялся, и скоро он мог только смотреть сверху на ту траву, которой питался раньше. В конце концов он умирал от голода, а его тело становилось пустой оболочкой. […] Молодой баромец – это ягненок, привязанный к земле. Он становится ближе к растению, когда его высохшие органы, мышцы и шерсть превращаются в растительный материал, в котором образуются семена. Поэтому он – одновременно растение и животное, но не может быть полностью ни тем, ни другим4.
Длинная и печальная история, как сказала бы Мышь из «Алисы в Стране чудес».
Допустим, что этот растительный ягненок – не более чем курьез, даже если рассматривать его на фоне прочих странностей барокко. Но в целом чудовища были необходимы барочной культуре для решения множества задач. Они не только служили для определения границ человеческого, но поставляли материал для риторики, способной сопоставлять и соединять что угодно с чем угодно другим5. Однако для соединения требуется процедура разделения: прежде чем соединить элементы в новом порядке, их нужно было выделить, вычленить из существующих структур, подвергнув таковые процедуре мысленной (или лингвистической) вивисекции. В результате, как пишет Элкинс,
чудовища создавались соединением частей, имеющих названия, взятых от животных, имеющих названия. Поэтому кентавр – это человек и лошадь, баромец – дерево и ягненок, а геральдическая виверна – двуногий дракон, получившийся из четвероногих драконов, которые, в свою очередь, получаются из ящериц, змей и летучих мышей6.Чудовища, как механизмы, рождаются на свет посредством комбинаторики, но сейчас для моего повествования важнее не барочная механистичность мира, части которого взаимозаменяемы7, а промежуточный характер чудовищ, их способность заполнять логические разрывы в мироздании.
Рассматривая чудовищ как маргиналии, мы не выходим за пределы очевидного. Где-то на краю земли, в неизведанных областях живут странные создания, о которых рассказывают путешественники (во всяком случае, те, кому посчастливилось вернуться домой). Но, если чудовища заполняют пустоты в наших логических схемах, они могут оказаться в любой точке пространства, в том числе и прямо перед нами.
Пока образом мира могла служить шахматная доска, как об этом писал Мишель Фуко в «Словах и вещах», мир был прост и понятен и не обещал естествоиспытателю особенных сюрпризов – по крайней мере, интеллектуальных. Но историзация мира привела к представлению о принципиальной неполноте природы, а также о непредсказуемом характере этой неполноты. Как раз о ней говорит Ламарк в стихотворении Осипа Мандельштама: