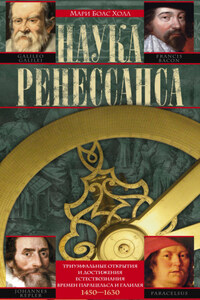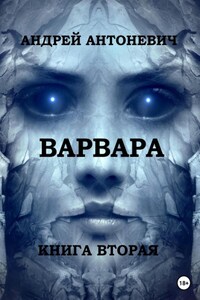Обидные упреки – люди обычно меньше всего их ожидают.
Может быть, обидные упреки стоило бы своевременно прятать под шкафом или на антресоли – это подходящие места для чего-то, что ищет свой конец в забытьи, в каком-нибудь недоступном или редко осматриваемом месте.
А потом также вовремя забывать и о беспокойстве по поводу того, мог ли обидный упрек успеть испортить твой имидж, и найдется ли под тем же шкафом и на той же антресоли еще немного места для последствий от него. И нет ли других обидных упреков, достойных того, чтобы подыскать для них достаточное пространство между полом и дном шкафа и соответствующую антресоль.
Городская площадь и я.
Мой разум управлял всеми органами моего до омерзения несовершенного тела.
Мой разум заставлял ноги совершать движения, и они так раздражающе шаркали подошвами ботинок по площади, которая мне нравилась.
Цель моего разума – растрата времени и энергии на размеренные движения и последовательную опору на стопы, сгибание ног в коленях. Я миновал магазины, в витринах которых, как в плену, томились суетливые тени и фантомы действительности. За стеклом обитало физическое воплощение эха окружающей жизни.
Я проходил мимо высоких и низких зданий, домов и пристроек – с окнами, напоминавшими бинокли с большими окулярами квадратной или прямоугольной формы.
Сколько движений своими бесхитростными конечностями я сделал и как надолго я позволял своим мыслям отвлекать меня от понимания прямоты моего маршрута?
Я восторгался в уме площадью: «Ах, как же площадь непристойна в том, как она открыто и без стеснения похваляется своей новизной и безукоризненностью пересечений, скоплением полос разной длины и ширины, диагоналей и проборов. Как же завораживающе удивительно бесстыдство нагих пространств площади, и как я еще не покраснел от смущения за свое неуемное любопытство, и как она не спешит пристыдить меня за это».
Ее неоспоримые достоинства – отсутствие малейших выбоин, трещин и вообще каких-либо изъянов. Я размышлял о том, что и эту безупречность однажды не пощадит скверный нрав изношенности – сейчас я могу сказать, что это молодость и свежесть духа площади, а завтра здесь всё уже будет отталкивать меня уродливыми морщинами.
Мой разум управляет моими мышцами, а площадь – нет.
Мой разум командует движением моих суставов и костей – а площадь только побуждает восторг своей новизной, будоражит всё мое несовершенное тело.
И я каждый миг иду на сделку с недостатками своего разума – а площадь всё же мне нравится.
Я расскажу о напарнике своего дяди. Я часто с ним пересекался – уж не знаю, по веской причине или из простого каприза судьбе вдруг вздумалось устраивать наши встречи.
Я думаю, судьба просто таким – несколько, может быть, интимным – образом не дает нам забыть о том, что она печется о нашем благополучии. А может быть, для того, чтобы люди постоянно чувствовали тесноту нашей общечеловеческой близости – мы как-то внезапно замечаем друг друга, хотя и кажется, что смотрим сквозь преграды, или зацепляем мыслью, оценивающей того, кто не существует в одном с нами пространстве. Я не стал бы говорить о судьбе как о товарище, с которым любая шутка безвинна, безвинна настолько, что можно ее повторить не один раз.
У моего дяди есть напарник, который ему помогает в обычных делах и по работе – дядя занимается усмирением бунтующего времени. У него есть собственная мастерская, где он и его напарник противостоят времени. Они вдвоем пресекают все попытки времени восставать против людей. Они усмиряют секунды, которые не хотят подчиняться минутам и своей логике. Утихомиривают минуты, не желающие слушаться часа, и, конечно же, усмиряют сам час. Правда, с часом все гораздо сложнее – ведь надо как-то целиком на него повлиять и заодно – точнее, в первую очередь – узнать, что же заставляет его бунтовать.
Да, усмирение внезапной непокорности времени – это всегда тяжелая работа, но еще более кропотливое и выматывающее занятие – оценивать, как долго будет длиться его бунт. С секундами и минутами проще – они крошечные слезы вечности, которые могут уместиться на ногте. Радует одно: час бунтует редко.
Мне кажется, время специально показывает свой нрав, чтобы у моего дяди и его напарника было основание не маяться от суки – тут есть некая польза времени – оттого у них не бывает возможности посетовать на недостаток работы.
Мне довольно симпатичен дядин напарник, я сразу уловил в нашем общении непринужденность и чувство близости. Он, как и мой дядя, весьма открытый, не вспыльчивый и вежливый. В последний раз, когда я встретился с ним – это было в мастерской дяди, – они оба, низко склонив головы, сидели за длинным узким раскладным столиком и молча рассматривали детали и запчасти то ли часов, то ли какого-то другого механизма.
На стенах за их спинами и на полках шкафов, громоздившихся по углам, блестели стеклами циферблатов часы самых разных размеров и форм. Я в тот момент, посмотрев на них, подумал, что, наверное, именно такими должны быть люди, стремящиеся сосредоточить на себе внимание времени или полностью стать похожими на само время.
Часы, минуты и секунды словно сходились на них, перемешивались в них и превращались в вечность, а может быть – в короткое мгновение. Что есть бунт времени и что есть его усмирение? Мой дядя и его напарник перебирали руками детали и запчасти – это общение с природой нескончаемости времени.
Время с удивительным постоянством беспокоит их ожиданием момента, когда требуется усмирять нечто, в принципе не осознающее чужого намерения это сделать.
Представьте себе: под их пристальными взорами время проживает свою жизнь – и на глазах у никогда не спящих секунд, минут и часов мой дядя и его напарник исполняют собственную судьбу. Мне же остается только замолчать.