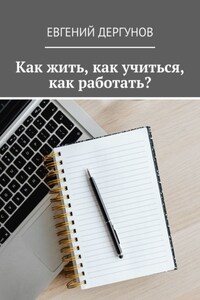(дополнение к миниатюре «В пустыне»)
Пустыня и оазис.
Пустыня или оазис.
Не одно и не другое, но всё вместе.
Это то, что мы называем своим домом, миром, который контролирует наше существование.
Наша жизнь и смерть превращаются в раскаленный песок.
Наша кровная связь становится раскаленным песком, который пересыпает в руках сухой обжигающий ветер.
Наша натура – это раскаленный песок, покрывающий огромные бесплодные пространства.
Иногда так тяжело дышать воздухом пустыни!.. Впускать в легкие огненное дыхание нашего мира.
Мы вдыхаем горячий воздух и чувствуем, как он выжигает наше горло. Так удовлетворение жизненно необходимой потребности причиняет боль нашему телу.
Мы словно песчинки, не разбросанные там и тут, а собранные одновременно в одном месте и во всех возможных местах разом. Мы и разлетаемся по пустыне, как песчинки, хотя есть то, что нас не отпускает, и присутствует нечто, чего мы не в силах отпустить. И всё же ветер подхватывает нас и уносит прочь от нашего оазиса.
Наш оазис сверху напоминает приплюснутый клубок из деревьев, кустарников и травы, спрятанный между складок барханов. Сквозь сплетающиеся побеги играют серебристые брызги ручьев, гладь тонких речушек, лужиц и озерец. Тень листвы напоминает белые и черные клетки шахматной доски. Мое племя, которое составляют четыре десятка людей, поставило кочевые палатки в тени деревьев.
Мы пришли в этот оазис, спасаясь от смерти.
Мы пришли в этот оазис в стремлении наконец-то создать свой собственный мир, где обитали бы только наши будущие поколения, воспоминания о предках и обычные каждодневные дела.
Никаких песков, хотя наши глаза то и дело натыкались на них.
Никакой жажды, впрочем, только здесь, среди деревьев, вблизи водоемов.
Никакого беспокойства о смерти.
Мы кочевали по пустыне – перемещались от бархана к бархану, от одного мелкого островка жизни к другому, боролись с песком и зноем, противостояли раскаленной пустоте пространства. Наше главное оружие в борьбе с жестоким безразличием природы – это запасливость: о воде мы помним всегда, а также забота о себе подобных, о соплеменниках, которые бредут по пустыне вместе с нами. Я слежу и за теми, кто возглавляет наш караван, и за теми, кто плетется в самом хвосте. Я беспокоюсь за всех, за себя, и за пустыню, которая и не думает жалеть нас.
Наши вожди храбры, ибо надо быть очень смелым, чтобы брать на себя ответственность, водя народ по местам, где всё воплощает в себе смерть.
Наши вожди собранны и целеустремленны, поскольку малейшая растерянность и утрата веры – это неминуемый проигрыш в борьбе за всё, чем мы являемся.
Воле, упрямству и несгибаемости наших вождей можно только позавидовать, временами каждый из нас – в том числе и я – пытаемся равняться на них, представляем, как наши воля, выносливость и характер возводят несокрушимые твердыни.
В пустыне есть и другие племена, которые ищут идеальный оазис, где они могли бы чувствовать себя в безопасности и где их не ждало бы разочарование.
Им не позавидуешь, не позлорадствуешь над их неудачами – это было бы совсем сумасшествием. И пока под ногами несчастных пустыня, а их поиски не завершены, им только мысленно пожелаешь терпеливого упрямства.
Вот что я смею сказать о пустыне и оазисе…
Одна из главных бед нашей жизни в пустыне – это жажда и борьба с ней. Временами мы так усердно думаем о воде, что забываем обо всём на свете. Хотелось бы научиться терпеть жажду или вовсе не замечать ее – это проверка пределов нашей выносливости – однако мы не можем пересилить себя, впрочем, у нас бывает возможность утолить ее. Попадающиеся на нашем пути источники – это средство борьбы с врагом.
Наша жажда в силах не просто превращаться в потребность, которую необходимо непременно утолить, но и буквально обретать плоть.
После этого она начинает нас преследовать, и мы никогда не оборачиваемся, чтобы посмотреть ей в лицо или понять, далеко ли мы успели убежать от нее. Или наоборот, увидеть, что жажда вот-вот настигнет и накроет нас с головой.
Неотвратимость и напор – это две главные особенности потребности. Ну́жды плоти сильнее нашего эгоизма или нежелания удовлетвориться тем, что есть.
Наша жажда может становиться то огромным вихрем белого, ослепительного пламени, то, разрастаясь неимоверно, принимать вид огромной стены огня. Горячий ветер смыкается кольцом вокруг нас, а мы только и знаем, что стараемся обмахиваться руками и держимся из последних сил.
Наша жажда касается только меня и моих соплеменников.
Мы видим жажду, хотя на самом деле ее нет и не может быть, но ведь иногда наши потребности должны воплощаться во что-то видимое, ощущаемое. Всё это мираж – игра света, подымаемых ветром песка и пыли. И очень может быть, нашей правды тут нет.
Будь проклята смерть, которой сочатся бесплодные пейзажи! Хотя ведь от пустыни не стоит ждать чего-то иного.
Мы думаем.
Мы вспоминаем.
Мы удивляемся.
Чему? Собственным поискам источника, способного покончить хотя бы ненадолго со всеми нашими нуждами, с бегством от смерти, от того, что ее предвещает, от пустыни в целом. Впрочем, от пустыни нам бесполезно пытаться спастись – ведь это место нашего обитания, а как избавиться от того, что встречает тебя при рождении и провожает в секунду смерти? Проживает вместе с тобой твою жизнь, судьбу и входит во все твои мысли и взгляды? Раскаленные пески и изнуряющее солнце всегда перед нами и вокруг нас.
У каждого из нас возникает еще одна жажда, она не такая острая, как та, которой обычно терзается человек, оставшийся без единого глотка воды, собственно, она даже не связана с потребностями тела. Эта иная жажда – стремление к расширению мест обитания, к смене одного оазиса на другой. По нужде или по чьей-нибудь прихоти? Как будто нашему оазису ничего не угрожает – по крайней мере, нигде не видно ничего, что могло бы вызвать беспокойство за нашу судьбу.
Про прихоть я вообще не знаю, что сказать: всякая прихоть мне чужда – в пустыне нет ничего лишнего, она нехотя дает самое малое, и эта малость для нас и всего живого, что укрывается в тени камней и редких кустов, – великий и бесценный дар. Всё под этим солнцем и небом пребывает в их бесконечной власти и привыкает с рождения довольствоваться ничтожными крохами.
Если бы существовал другой оазис или хотя бы место, которое позволило бы нам жить, то мы, возможно, назвали бы его вторым домом. Мы попытались бы там устроить именно такую жизнь, которая предпочтительнее всего для нашей натуры, чтобы каждый из нас чувствовал себя на своем месте. Нам бы пришлось создавать новую историю, легенды и песни – в этом нет ничего сложного – было бы что воспевать, что вспоминать и чем дорожить – всё остальное появилось бы само собой неизбежно и неотвратимо.